Shoqan – Г. Н. Потанин. Европа и Азия в кадетском корпусе
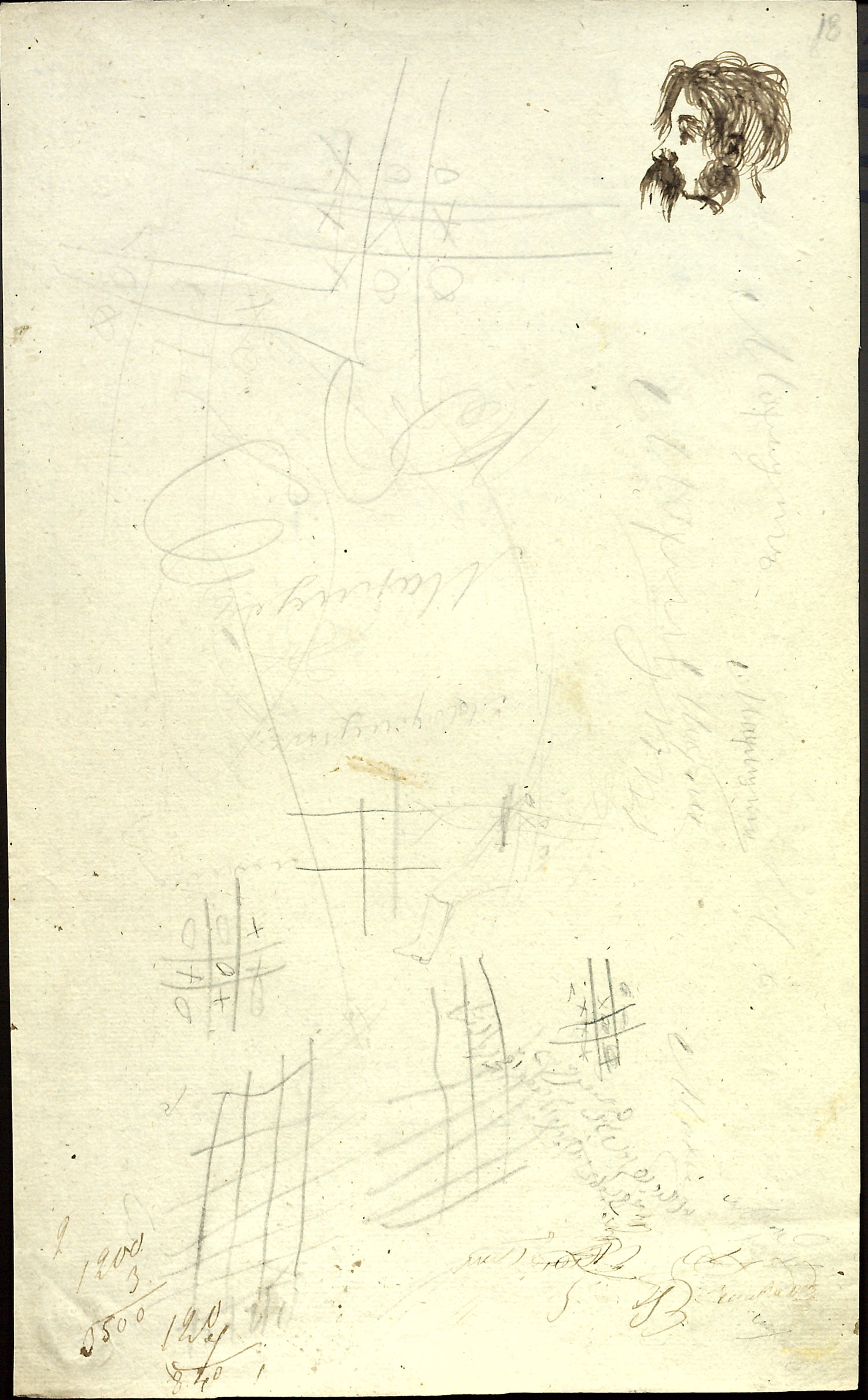
Дружеский шарж Ч. Валиханова на Г. Потанина
Сибирский кадетский корпус был сформирован из войскового казачьего училища в 1845 г. Это училище было основано в 20-х годах при губернаторе Капцевиче. По количеству преподаваемых предметов училище приближалось к среднему учебному заведению, но обстановка, в которой жили дети (заведение было закрытое), скорее походила на кантонистскую школу. Училище было открыто исключительно для казачьих детей и содержалось на средства казачьего войска. Комплект учеников полагался 250 человек. Другого училища с равной программой в Омске не было, поэтому в то же казачье училище стали отдавать своих детей и офицеры сибирской линейной пехоты, а кроме того, и гражданские чиновники. В этом плебейском заведении порядок дня был такой. Утром, вставши с постели еще до рассвета и одевшись, мы строились во фронт, накинув на себя серые шинели. После молитвы нас вели через двор во флигель, где помещалась столовая, там мы усаживались вдоль столов; служители раздавали нам куски серой булки. Каждая круглая булка была разрезана на четыре части крест-на-крест. Служитель, положив около десятка таких ковриг на левую руку в виде колонны, поднимавшейся вдоль его груди до лба, поддерживал вершину колонны правой рукой, бежал вдоль столов и разбрасывал ковриги по столам. Воспитанники ловили надрезанные ковриги, разрывали на поделенные части и ели. Четвертушка такой серой булки и составляла весь утренний завтрак воспитанника. Из столовой ученики шли в классы, где оставались в течение 3 часов; в середине занятия прерывались для перемены. После классов обедали в той же столовой. Обед был простой, состоял из двух блюд, одних и тех же каждый день: щи из кислой капусты и каша с маслом. Ели из оловянных тарелок оловянными ложками. Щи и каша подавались в оловянных мисках. Кому казалось мало хлеба или квасу, позволялось потребовать прибавки. Недовольные подымали в этих случаях руку вверх; служители, стоявшие в дверях, следили за жестами обедающих и, увидев поднятые руки, подбегали узнать, что нужно. После обеда еще были занятия также в течение трех часов. День кончался ужином, который состоял из одной каши с маслом. Преобразование войскового училища в кадетский корпус началось с разделением его на две части: на роту и эскадрон. В первую были включены дети пехотных офицеров и гражданских чиновников, во вторую — дети казаков. В то время, когда я поступил в заведение, в роте насчитывалось 200 человек, а в эскадроне было только 50. Ротные и эскадронные кадеты были отделены друг от друга в классах и дортуарах; мы только обедали в общей столовой. У ротных были свои субалтерн-офицеры, у казаков — свои. Только преподаватели были общие. Для роты были присланы офицеры из петербургских кадетских корпусов: Музеус и Штемпель, оттуда же был назначен и ротный командир Павловский. Казакам оставили казачьих офицеров, которые ранее служили в войсковом казачьем училище: Черепанова, Старкова и Угрюмова; эскадронным командиром был назначен Кучковский, который ранее был преподавателем геометрии. Домашняя обстановка, обхождение офицеров с воспитанниками и стол резко изменились. С воспитанниками стали говорить на «вы», оловянные тарелки и миски были заменены фаянсовыми. Изменилась и учебная часть. Для усовершенствования кадет во фронтовой службе были присланы офицеры из Петербурга. Особенное значение для корпуса в этом деле имел офицер Музеус. Это был образцовый фронтовик, высокий, вытянутый в струну, с громким голосом. Гроза для неисправных и нерасторопных. Он задавал тон и остальному офицерскому персоналу. Военный дух старались поднять у нас и внешней обстановкой дортуаров: стены их представляли галерею портретов героев Отечественной войны. В одной из камер эскадрона была повешена картина, изображавшая гибель Ермака в волнах Иртыша. В дортуарах эскадронных кадет, как и ротных, была библиотека для внеклассного чтения. Книги выдавались эскадронным и ротным командирами. Эти библиотеки тоже были составлены с тенденцией: тут была история Отечественной войны, сочинение Данилевского. Впрочем, тут были и книги более общего интереса: исторические мемуары вроде «Записок Манштейна», «История государства Российского» Карамзина и, кроме того, «Путешествие Дюмон-Дюрвиля», обработанное для юношества, записки моряка Броневского, описывающие плавание у Ионийского архипелага. Кучковский почему-то неохотно выдавал книги для чтения. Иногда под предлогом, что внеклассное чтение отнимает время от занятий уроками, отказывал в выдаче; он находил это чтение праздным, лишенным образовательного значения. * * * В военных школах всегда отводится большое внимание математике. Ждан-Пушкин, который организовал учебную часть после реформы, конечно, поставил преподавание математики, насколько было возможно, удовлетворительно, но в этой отдаленной провинции ему приходилось бороться с недостатком преподавателей. Лучше всего преподавалась геометрия. Для этого предмета он не выписал учителя из столицы, а воспользовался местными силами. Наш эскадронный командир Я. И. Кучковский преподавал геометрию еще в войсковом казачьем училище. Эту кафедру Ждан-Пушкин оставил за ним и после преобразования училища в кадетский корпус. Я и теперь с удовольствием вспоминаю уроки Кучковского, поражавшие своим, если можно так выразиться, изящно ясным изложением. Мне кажется, благодаря такому изложению, в котором не было ни одного лишнего слова, он был в состоянии любого тупицу от самого простого положения довести до самой сложной теоремы, не вызвав в нем ни малейшего затмения. Не так удачен был выбор преподавателей по алгебре и тригонометрии. Конечно, и эти кафедры занимали знатоки своего предмета, и для учеников, специально созданных для занятий математикой, они принесли пользу; мои товарищи были ими очень довольны, но меня преподавание учителей алгебры, сколько их ни сменялось за время [моего учения], не увлекало, и только раз, когда кафедра пустовала, и Ждан-Пушкину самому пришлось преподавать предмет, я услышал такое же очаровательно ясное изложение алгебры, каким было изложение у Кучковского. Бросая теперь взгляд назад, мне кажется, что Ждан-Пушкин распределял предметы преподавания в разумной пропорции. Хотя мы [постоянно] видели его одетым в военный мундир, но мы в нем видели не столько военного человека, сколько просто человека. Русский язык, история русской литературы, география, всеобщая история, закон божий — все эти предметы преподавались учителями, лучше которых и желать не надо. Для замещения [состава] некоторых кафедр Ждан-Пушкин делал специальные поиски, но несколько учителей он оставил из прежнего дореформенного состава. Кроме Кучковского он оставил еще двух — Старкова и Костылецкого. Первый в войсковом казачьем училище преподавал географию, второй — русский язык, теорию словесности и историю русской литературы. Когда мы кончали курс, Ждан-Пушкин предложил Старкову прочесть эскадронным кадетам географию Киргизской степи подробнее; он сделал это потому, что служба казачьих офицеров, учившихся в Сибирском кадетском корпусе, потом должна была исключительно проходить в пределах Киргизской степи. Им предстояло ходить с отрядами казаков в степь, нести там кордонную службу и принимать участие в военных экспедициях, доходивших на юге до границ независимого Туркестана. Старков исполнил желание инспектора классов, и я вышел из корпуса с такими географическими знаниями соседней Киргизской степи, каких не имел ни о какой другой территории. Может быть, Ждан-Пушкин был единственный педагог в Сибири, который, занимая педагогический пост в Омске, не относился индифферентно к географическому положению окружающей местности. Директора гимназий, реальных училищ, учительских семинарий и попечители учебных округов у нас, в Сибири, относятся по большей части формально к возложенным па них задачам; они ограничивают свои обязанности выполнением предначертанных свыше программ и не хотят знать ничего-из того, что не исходит от начальства. Они не задумываются над значением для местного края вверенных им школ, не пускаются в соображения, куда по выходе из школ попадут их питомцы, и что придется им делать, какие услуги будут оказывать обществу и науке? Общественные идеи достигали нас двумя путями: школьным и нешкольным. Школьными проводниками их были преподаватель русской словесности Ник. Фед. Костылецкий и преподаватель истории Гонсевский. Костылецкий познакомил нас с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. На Пушкина он смотрел как на национального гения; он казался ему необыкновенно одаренным человеком. Костылецкий рассказывал о своей встрече с поэтом. Автор «Истории Пугачевского бунта» проезжал через Казань и посетил университет. Студенты сбежались в заведение, чтобы увидеть великого поэта, но Костылецкому, который был тогда студентом, не удалось прийти в университет. Через несколько часов, когда он шел по одной из казанских улиц, мимо него проходил человек, от которого такой духовной мощью пахнуло на Костылецкого, что тот невольно замер, провожая его глазами. Студент подумал: это, вероятно, Пушкин. Он запомнил черты лица незнакомца, прошедшего мимо, подробности его костюма, манеру носить платье и, когда потом расспросил своих товарищей, то убедился, что действительно встретился с Пушкиным. Костылецкий познакомил нас со взглядами Белинского на русскую литературу; он весь свой курс о русской литературе составил по критическим статьям Белинского. Кажется, я не ошибусь, если скажу, что такие деликатные предметы, как история литературы и всеобщая история, преподавались нам конспиративно. Костылецкий построил свой курс на Белинском, но имени Белинского ни разу перед учениками не произнес. Об этом я узнал только впоследствии, спустя восемь или девять лет, будучи вольнослушателем Петербургского университета, когда пришлось прочесть Полное собрание сочинений Белинского, тогда только что вышедшее. Кадеты, родители или родственники которых жили в городе, по воскресным дням отпускались домой. Они уходили из корпусов вечером в субботу и возвращались вечером в воскресенье. Таким образом, создавалось общение кадетской массы с городским обществом, и она подвергалась воздействию внекорпусной среды. Общение детей казаков со своими семьями имело мало значения, гораздо важнее были для кадет посещения семейств их ротными товарищами. Во-первых, казачий контингент был менее значителен: из общего числа кадет казаки составляли только одну пятую часть; во-вторых, родители ротных кадет представляли среду, гораздо более разнообразную и гораздо более интеллигентную. Эскадронные кадеты были уроженцы только казачьей линии; кроме берегов Иртыша, Горькой линии и долины Алтая, они других мест не знали, а в роте были кадеты не только со всего пространства Сибири от Томска до Якутска, но тут находились и такие, детство которых прошло или в Архангельске, или в Кишиневе, или в Тифлисе, или в Москве и Петербурге. Затем родители ротных кадет не были одинаковы по роду своей службы. Одни были военные, другие гражданские чиновники; конечно, воспитание детей во время дошкольного возраста в этих семьях было различно. Выше я уже говорил, что отцы эскадронных кадет были небогаты, и дошкольное образование их детей было очень скромное, в роте же числились дети генералов и важных гражданских чиновников, в домах которых собиралась самая просвещенная в городе молодежь. В этих домах интересовались русской литературой и внутренней политикой. Новости, приносимые ротными кадетами в корпус из города, резко отличались по своему содержанию от новостей, приносимых эскадронными. Поэтому корпус получал свой свет из роты. Ротные кадеты отличались своей осведомленностью, а также более отшлифованными манерами; казалось, что у них и темпераменты мягче. Последний год перед выпуском в роте своим благородным характе¬ром выдвинулись два кадета — Людимов и Ганкин, другие счи¬тали за честь дружбу с ними; в них видели отражение благородно¬го характера Ждан-Пушкина, которому мы все старались подражать. Наши дортуарные библиотеки были очень бедны, в них не бы¬ло совсем беллетристики. Этим материалом корпусные читатели снабжались из города, через ротных кадет. Таким путем к нам проникли «Вечный жид» Эжена Сю, «Три мушкетера» Александра Дюма, а также и романы Диккенса: «Давид Копперфильд», «Домби и сын», «Мартин Чодзит», «Записки Пиквикского клуба» и многие другие. Это было в последний год моего пребывания в корпусе. Я с особенным увлечением читал Диккенса вместе с моим другом Александром Дмитриевичем Лаптевым. В то же самое вре¬мя увлекался Диккенсом и другой мой друг — Чокан Валиханов. Мы все трое воспитывались на этом писателе и унесли уважение и благодарность к нему надолго [после того, как вышли] за стены учебного заведения. Тургенев оставался нам в корпусе неизвестен. Я познакомился с ним года два спустя по выходе из корпуса. Мы не имели также никакого представления о крепостном праве и на¬зревшей государственной потребности освобождения крепостных крестьян. Слышали ли мы тогда что-либо о декабристах, я теперь сказать не решаюсь. Вернее всего, что мы о них ничего не слыхали. Неизвестны были нам также и идеи социалистов. Эскадронным кадетам много новостей приносил Чокан Валиха¬нов. Омское образованное общество очень интересовалось этим кадетом; некоторые лица из этого общества брали его в свой дом на воскресный отпуск; это были очень интересные дома. Особенное влияние на его развитие [оказал] бравший его по воскресеньям преподаватель всеобщей истории Гонсевский. Поэтому мы, эскадронные кадеты, немало были обязаны этому киргизскому аристократу с демократическими убеждениями. По выходе из корпуса в течение еще десяти лет, по крайней мере, я это могу сказать о себе, мы жили идеями и влияниями того кружка друзей, к которому принадлежали в учебном заведении. Мы уже жили вне корпусных стен, а кружок продолжал развиваться; с некоторыми явлениями, например, с поэзией Гейне, мы познакомились уже по выходе из корпуса, но это было продолжением влияния корпусного кружка.Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 393-399