Shoqan – Труды: Западный край Китайской империи и город Кульджа [Дневник поездки в Кульджу 1856 г.]
[Дневник поездки в Кулъджу 1856 г.]
1 августа 1856 г.
Работа представляет собой запись путевых впечатлений Уалиханова во время дипломатической миссии в Кульджу с 1-го августа по 15-е октября 1856 г. Значительное место в дневнике отведено вопросам торговых отношений России с Китаем, которые выделены Ш. Уалихановым в особый подзаголовок, структурно не связанный с дневником («О ходе торговли в Кульдже»).
Китайский пограничный пикет Борохуджир.
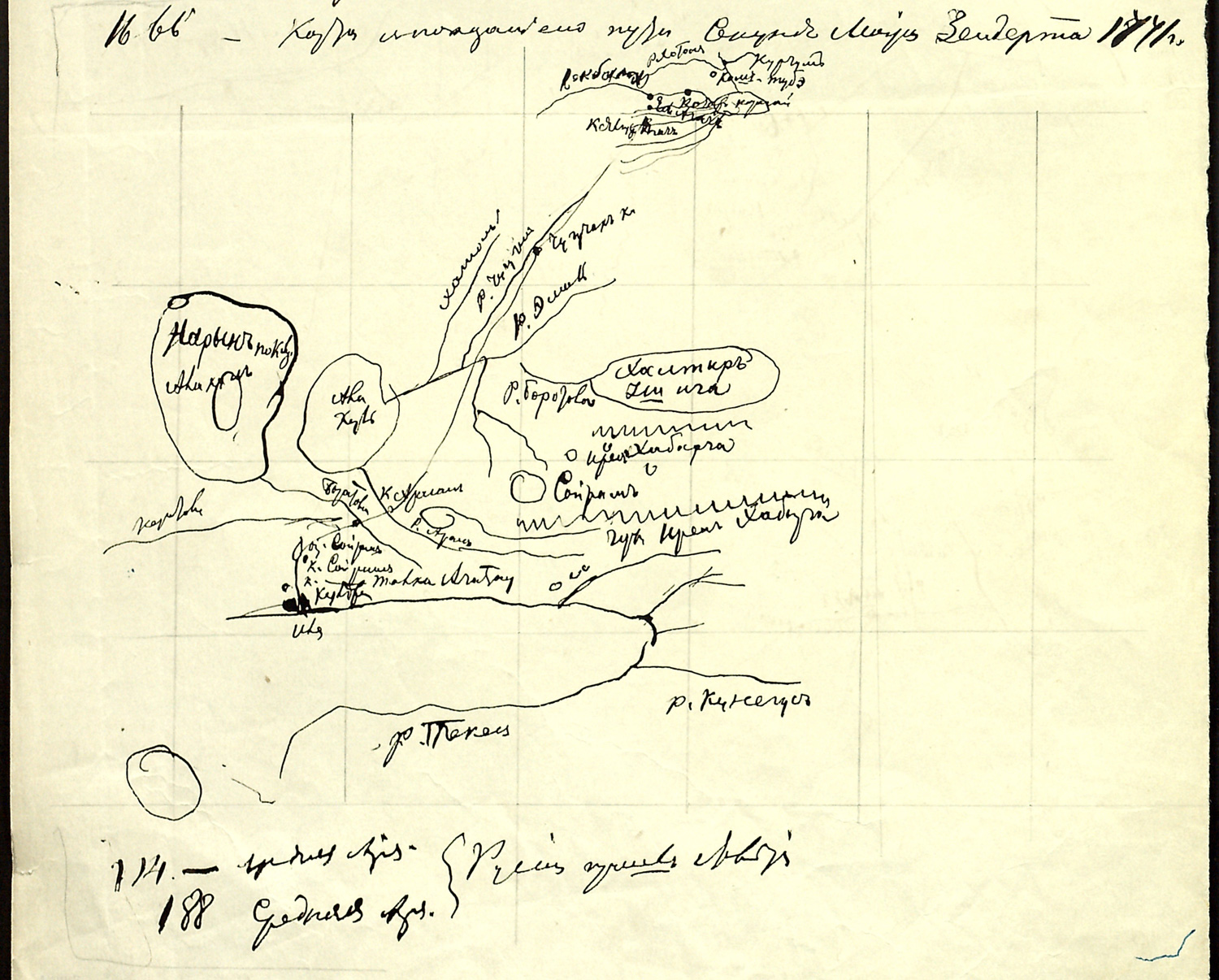
Карта пути секунд-майора Зендерта 1771 г. в Джунгарию. Из архива Ш. Уалиханова
Случай привел меня в Китай. Вот уже 6 дней, как я выехал из Капала и ожидал у Т[атаринова] товарищей по путешествию. Проход Югенташ, нет сомнения, есть один из самых благоприятных проходов во всем Алатаве, исключая разве Санташ, который еще, более удобен. Югенташ значит буквально — каменная насыпь. Название это происходит от маленького кургана, сложенного из булыжника, как делается много могил у киргиз; кургана, подобного которому в степи тысяча. Но, как бы ни было, югенташский курган славен и дал название целой горной долине и проходу; народное предание основание его относит к одному из джунгарских ханов, хонтайджиев, кажется Батору.
Югенташская долина есть горное плато, образованное течением на западе речек Агныкатты, Каргалы, на востоке Усека, Борохуджира, который при впадении называется Турген. Это — низкая, болотистая котловина на горной возвышенности, покрытая множеством ручейков или родников, называемая саз. На севере идут снежные горы Алатава, на восток к Китаю при Югенташе отделяется ветвь, известная под разными названиями: Хабырген, [Ирен-Хабурга, Эрен-Хабурга] и проч. На запад идут ветви Кызылкия, Сатлы до реки Коксу. Через Югенташ эта цепь связывается с горами Алтын-Эмельскими. Путь по Югенташу не представляет никаких особенных затруднений, кроме нескольких довольно крутых логов, образующихся течением ключей, впадающих в Каргалы. В 1852 г. полковник Ковалевский проходил через него с отрядом казаков при орудии. Первый самый трудный лог называется Кескентерек. Он отделяет отдельную сопку Аралтюбе от югенташской возвышенности.
Югенташ не представляет особенно картинных видов, как другие горные проходы Алатава, и не производит на десятую долю того впечатления, которым наполняется ваше сердце при проезде через Санташ при реке Тюпе. Направо, налево виднеются серые сплошные громады гор, покрытые редкими лесами ели или же вовсе голые. Только ровная поверхность самого прохода, сплошной зеленый ковер мягкого кипеца подзадорит вас, если вы охотник до колких растений, промчаться по нему стрелой и по- джигитовать порядком.
После однообразных горных видов, беспрестанно торчащих скал, немолчно шумящих ключей, густо заросших цветов этот дивертисмент как-то приятно действует на человека. Все нам надоедает: живем на широкой и гладкой Руси — рвемся на Кавказ, где стоит белоснежный Казбек, хочется видеть Альпы, нужны горы, «столпообразные раины» и «звонко бегущие ключи», а как бросит судьба в такую местность — сначала восхищаешься, потом все это начинает надоедать: и «столпообразные раины» и «звонко бегущие ключи» и опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет береза белая, родная сосна. Там дыхание как-то свободнее и мысли текут шире, там как-то привольнее… Все безгранично, как степь, — и желания, и дела. Угрюмые, дикие виды гор, хотя живописные, как-то заботят, отягощают вас: то вас поражает великолепный водопад, вы как-то усиленно напрягаетесь мыслями, то какая-нибудь пропасть устрашает вас своей теснотой, громадные скалы, ревущие реки — все как-то сердито, во всем сказочно, || и вы настраиваетесь под этими впечатлениями к какой-то лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным. Только степняк может знать цену золотой лени, он только может жить без горя, без печали, не думая о будущем… Только степняк может быть беззаботно счастлив. Он знает цену наслаждению покоем.

Реконструкция карты пути секунд-майора Зендерта 1771 г. в Джунгарию
В горах могут воспитаться черкесы. Он, рождаясь, борется с природой, каждый шаг его есть риск. Вокруг стоят твердые, угрюмые скалы, внизу пенится, шумит, ревет, ворочает камни какой-нибудь Терек. Вот его учителя. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и в птицах гор! Тяжелый гриф терзает окровавленный труп, хищный ястреб нападает на беззащитного фазана, а орел отнимает его добычу. Медведь, тигр наполняют ужасом лес и делают беспрестанные набеги на бедных оленей.
Совсем другой ландшафт, другая природа окружают степняка. Там свобода, счастье и между зверями, и птицами божьими. Широкая река или необъятное озеро тихо струят свои гладкие и светлые воды; утки, гуси, лебеди гордо плавают на водах, поднимают гомон, шум, но все это дружно… Никто никому не мешает. Легкая чайка роскошно купается в лазури небес. Степной жаворонок поет свою песню на высоте и сладко трепещет крылами. Во всем беззаботность и лень. Беспредельная, как море, степь покрыта тысячами разных трав, бедные цветочки, тонкие и мелкие, расстилаются зеленой скатертью. Ветер ли пробежит — равно зарябят и тихо зашумят травы. Всюду жизнь: пчелы, бабочки парят с цветка на цветок. Я сам степняк и увлекся степью, пора обратиться к предмету.
После перехода через югенташскую насыпь начинаются ручьи, которые сливаются и, в виде дуги, тянутся от холма Кушмурун до возвышенности Койтас. Эти ручейки по сырости местности называются сазом (солонцом), хотя, в сущности, совершенно не солоны. С Кушмуруна через Койтас мы вступили в холмистую местность. Это последние холмы от Алатава к степи, открывающиеся на Или. По ущелью Карасай мы переехали эту гряду и вступили в узкую долину Борохуджира. Речка эта имеет, как все речки Семиреченского края, быстрое течение и каменистое дно.
С возвышенности, по которой ехали мы, открывалось все течение речки. Она тонкой полосой струилась по узкой щели. Направо и налево окаймляли ее серые голые куски скал. Все было пусто и каменисто; только густая рощица красивых тополей приятно синела на этом пустыре, как тенистый оазис в песчаной степи. Вокруг паслись лошади и доказывали собой присутствие человека.

Бивуак на берегу оз. Иссык-Куль. Карандаш. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г
Это был китайский пикет, заключенный в естественный покров зеленых листьев. Часовой, стоявший на ближайшей горе, при нашем приближении заревел громко: «Боран!» (человек). Несколько бритых голов, с хохлами на макушке, выглянули из-за глиняной стены и тотчас же спрятались. Любопытство выражают только варвары, просвещенному китайцу не должно ни в чем уподобляться левополым. Мы в церемониальном порядке, устроенном по китайским правилам приличия и сознания своего достоинства, подъехали к берегу речки, имея впереди вершника, неизбежного в китайском этикете, и в благородном отдалении от караула стали разбивать свой стан. Когда мы устроились хозяйством и вошли в юрту, из караула показались китайцы. Один из них ехал впереди, и, как должно порядочному лое, господину, спустив повода, ступал самым тихим аллюром. Около шли другие посетители. Вверив свою лошадь попечительству какого-то оборванного калмыка, мандарин скоро вошел в юрту и, стоя с наклоненным вперед корпусом, начал, скребя горлом, как ученый скворец, свои приветствия. Во-первых, осведомился о состоянии наших желудков: «Чиляофан?» (обедали ли?). Потом спросил, или, как говорят китайцы, «понюхал», наше здоровье от имени цзян-цзюня и его товарища хебе-амбаня, спросил о дороге, «понюхал», еще о чем-то и еще. Во все время речи крепко держался принятой позитуры, только по временам разводил руки. Его просили сесть. Красный и усталый от жары, он вынул грязную тряпку и начал утирать свое лицо.
Отдохнувши, он объявил в дополнение к сказанному, что он, как манчжу по происхождению, прислан самим цзян-цзюнем в качестве вожака для нашей встречи и препровождения в Кульджу и что он служит при торговом дворе в должности дулая — рассыльного. Он знал немного по-татарски и объяснялся с нами уморительной смесью слов китайских и тюркских; все длинные слова он сокращал или отделял на несколько однозвучий и произносил своим китайским прононсом.
Дулая, или, как его называли попросту, дулай, был мужчина хоть куда. Физиономия у него довольно приятна и более походит на тип нашего башкира, нежели китайца. Полное его лицо не так скуласто, как у китайца, узкие и выдавшиеся шишкой глаза расположены на прямой линии, а нос у него даже слишком поднят для субъекта племени монгольской породы. Редкие, но длинные усы зачесаны прямо и закрывают губу. Он, по-видимому, ими занят, ибо беспрестанно гладит щеткой и опускает прямо на рот, или же он старается ими закрыть черные и гнилые свои зубы.
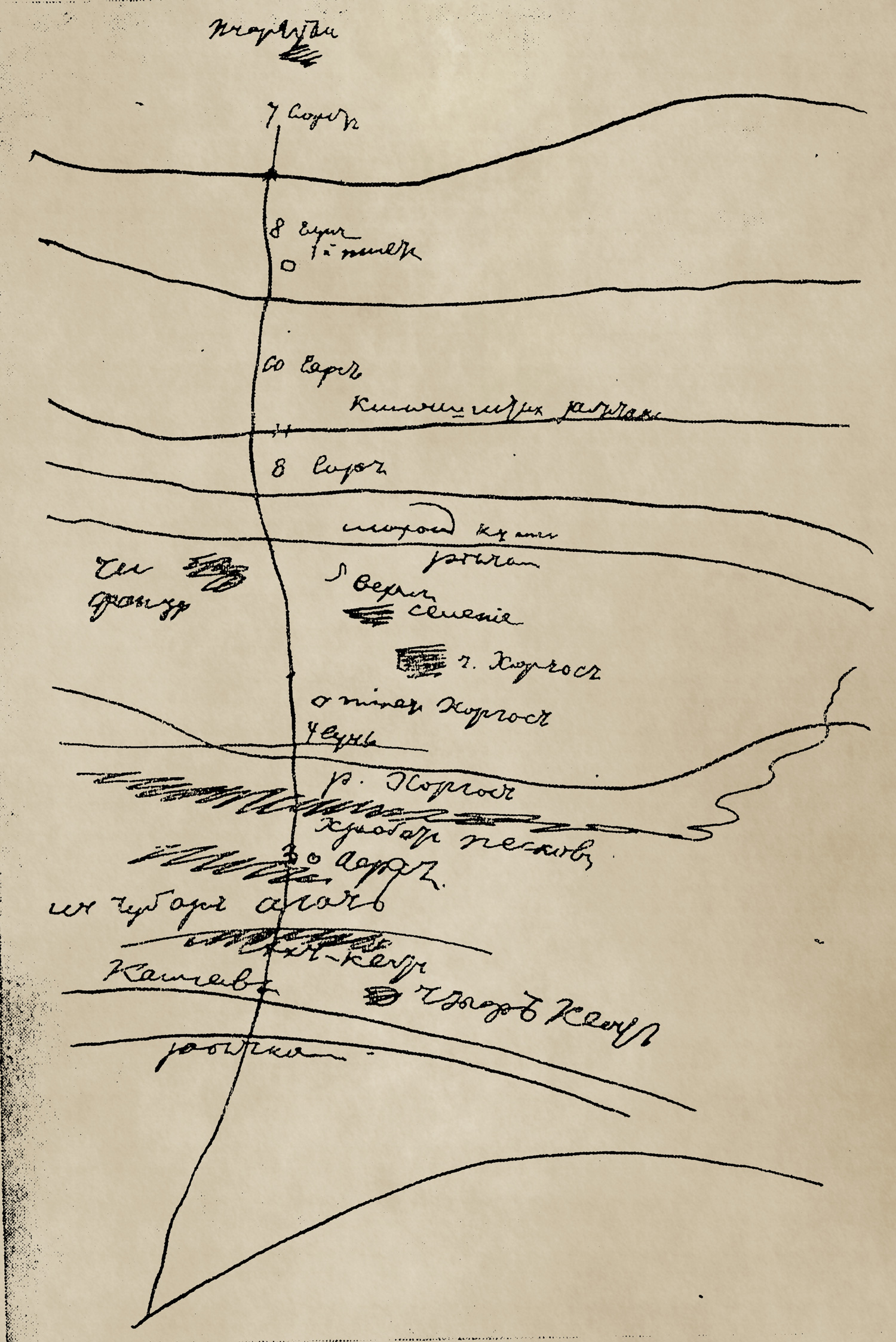
Часть маршрута из Верного в г. Кульджу. Схема в тексте дневника Ч. Валиханова
Одет он был в темно-синюю шерстяную курму, под которой виднелся серый, приспособленный к верховой езде, халат с разрезом как спереди, так и сзади. Черная суконная шапка с двумя собольими хвостами доказывала, что он в командировке, а белый матовый шарик — его обер-офицерский ранг. Между тем как дулай занимал нас ученым разговором и тонким обхождением своим доказывал нам, варварам, свою обтертость, пришел солонский офицер и от имени цзян-цзюня предложил дары. Уморительно было видеть, как поражались китайцы нашим отказом и как усиленно старались вразумить нас в тонкости обычаев и церемоний, представляя подарки эти выражением доброго расположения двух дружественных наций, и доказывали, сколь было несогласно вежливости и достоинству большого человека (так называли они нашего полковника) не принять дары.
Китайское правительство, как всякое азиатское государство, устраивает подобные подарки за счет народа, а офицера обязывает непременно доставить их по назначению, ибо снабжать гостя съестными припасами есть старый обычай империи. В случае отказа, т. е. непринятия даров, бедный офицер подвергается ответственности, неудачу приписывают неумению офицера поднести должным образом. Принимая в соображение это обстоятельство и еще чистосердечное признание китайца, что лицо его перед цзян-цзюнем будет черно, мы приняли двух баранов, 10 фунтов риса и столько же муки. У китайцев, как и у других азиатцев, черное лицо значит бесчестие, то же, что «руй сиях» у персиян.
2 число [августа].
От Борохуджира до р. Усека лежит песчаная голая степь, около Борохуджира всхолмленная и при третьем пикете обращающаяся в равнину, которая идет до самой Кульджи. Грунт земли глинист, состоит из рыхлых слоев песчанистой глины и мелкого мусора. Течение воды, весенние снега обрушили эти холмы, образовали яры и канавы. В степи нет никакой растительности, кроме юсана (мелкая полынь), полыни (Artemisia absinthium), чернобыльника (Artemisia vulgaris), эбелека, колючих кустов мелкого карагана (Caragana) и ченгиля (той же породы). Около речки растительность была более разнообразна: на берегу Борохуджира мы видели огромные кусты китайской конопли и чия. Кажется, одни ящерицы да змеи были хозяевами этих мест. Первые во множестве разных пород, зеленые и быстрые на бегу, последние — короткохвостые скользят всюду под ногами. Из птиц мы встречали только жаворонков и степную породу рябчиков (Syrrhaptes paradoxus Pall).

Реконструкция схемы части маршрута Ч. Ч. Валиханова из Верного в г. Кульджу
День жаркий, нет ни малейшего ветра, и солнце нагрело землю так, что нет возможности ступать ногой. По такой степи и в такой жар мы брели ровно 25 верст, пока не приехали к первому арыку от реки Усека. Усталые и томимые жаром, мы с особенным удовольствием воспользовались тенью нескольких серых ив, которые росли тут, и отдыхали в ожидании верблюдов наших, шедших позади. Мы ехали прямо на Усек, оставляя на правой руке за логом китайский пикет № 3.
Китайские офицеры, сопровождавшие нас, тоже остановились, но выбрали местом отдыха шалаш хлебопашца-солона, где, как признались после, успели перекусить луку и выпить свою вонючую водку — джу, разумеется, за счет хозяина. Покончив свою трапезу, они, по-видимому, к великой радости бедного солдата, которого безвозмездно разорили чашкой кислого молока, приехали к нам и предложили сделать привал на Усеке, до которого, по их уверению, было только 3 версты. Так как вода в арыке была мутная и около не было корму для лошадей, мы, разумеется, с большой неохотой сели на коней и опять, положив все упование на аллаха, подставили свои головы жгучим лучам китайского солнца.
Странный и печальный вид имеет подобная изнуряющая поездка. Кони, повесив головы, ступали мелким шажком, всадники сидели как-то вяло и, распустив поводья, думали бог знает о чем. На людях и скотах равномерно заметны были усталость и нехотение. Наши китайцы и тут действовали по правилам этикета, и тут устроили процессию, впереди которой тощий солон, вооруженный луком и стрелами, исполнял должность неизбежного динь-ма — гвоздь-человека. Господа чиновники на своих широких, как стул, седлах сидели бессмысленно и курили свою медную ганзу. Черная из грубой дабы … тряпка заменяла им уже шляпу; блином накрытая на голову, как у имеретинцев, папанаки, она была обвита косой, чтобы не падала, а спереди нависшие на лоб углы бросали обильную тень…
И тут степь была тоже гола и песчана. Только по течению речки росли деревья, чему мы очень обрадовались, представляя себе, что под тенью их можем спокойно отдохнуть; но увы! и тут открылось, что остановиться на Усеке нет возможности за неимением корма. И действительно, всюду был песок и булыжник, ни одной травы, даже чистого места для ставки юрты не могли отыскать при сильной рекогносцировке. Однако ж мы решили тут, под деревьями, остановиться и подкрепить себя, т. е. желудок, на малую толику.
В приятном ожидании предстоящего обеда я отправился для купанья к реке, и люди стали заниматься приготовлением чая и закуски. Несмотря на это, жажда мучила так сильно, что я лишился последнего терпения и начал пить теплый кумыз. Жажда увеличилась еще более; я пробовал охладить напиток и приказал привязать бурдюк [к ветке и опустить] в реку. Пил кумыз с водой, но все напрасно. Наконец подали ожидаемый чай. Удивительный и незаменимый напиток этот китайский лист в жаркое время: ничто, решительно ничто не может утолить жажду, как чай. Слава аллаху! Отвели душу! Да так успокоились, что были в состоянии выпить водки и закусить китайской уткой, которую вместе с несколькими курицами и огурцами купили по дороге у хлебопашца-солона. Жар был так силен, что одна из птиц наших снесла тут же, на песке, яйцо.
Пока мы проводили время под ивовым кустом и совершали свою походную трапезу, верблюды успели переправиться через реку и направились на речку Бурхансу, обильную кормом и водопоем. Надо было, наконец, и нам садиться опять на коней. Подкрепленные чаем, мы бодро сели на коней и поехали шибко. Степь от Усека начинает несколько изменяться. Открылось огромное пространство, усеянное лесами; направо была Или, а впереди синели низкие песчаные долины. Странно, здесь, где только проходит вода, там является и усиливается растительная жизнь. По Усеку уже росли, кроме ченгиля и таволожника, довольно высокие стволы серой ивы (Salix cinerea), джигдовника (джида), а несколько далее на арыках стали являться красивые стволы ильма с ярко-зелеными листьями и барбарис. Чем далее, тем более степь оживает: печальный и безжизненный характер ее смягчается зеленью деревьев, которые делаются все гуще.
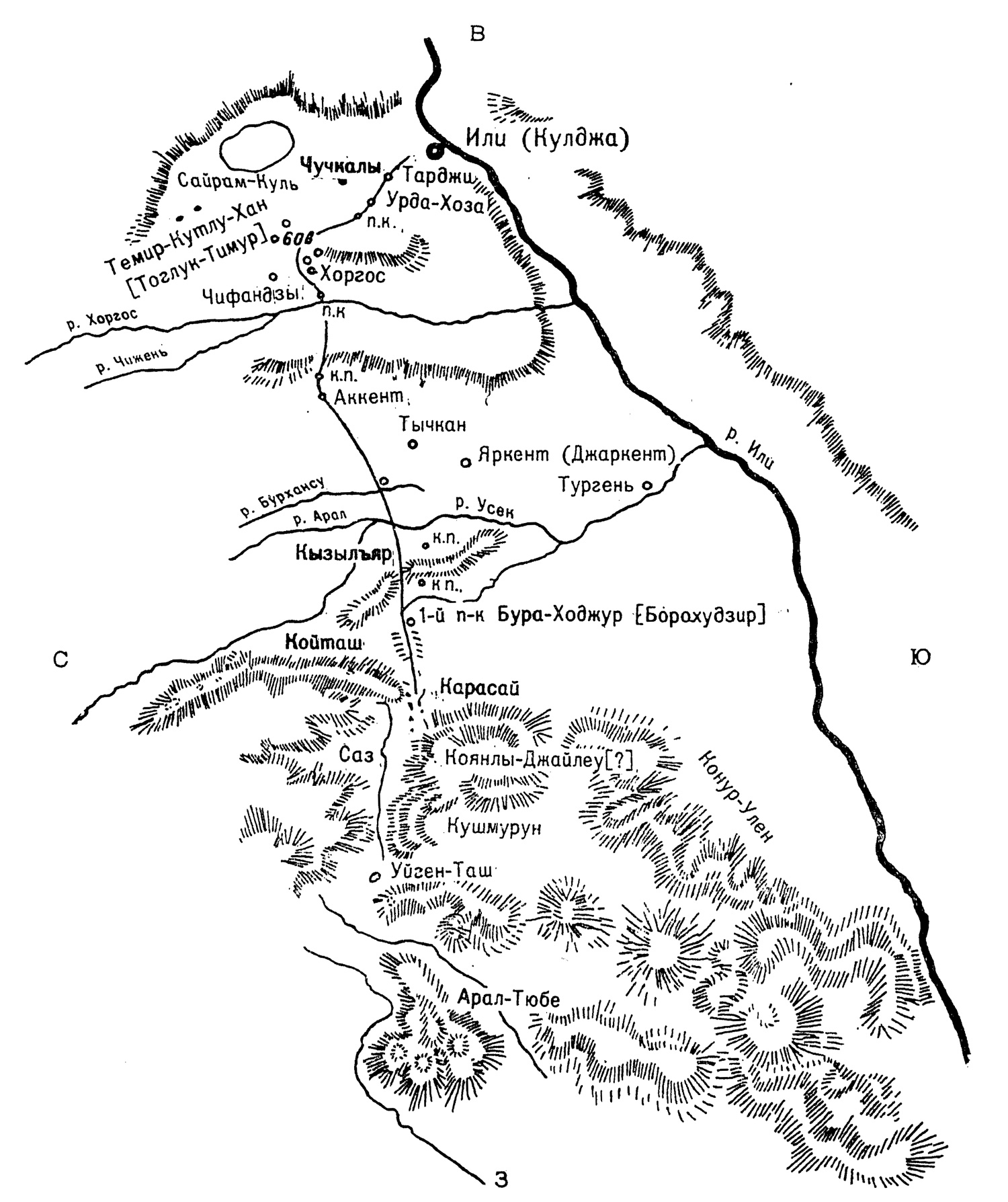
Реконструкция схемы маршрута пути Ч. Ч. Валиханова через Алтын-Эмель до г. Кульджи
По арыкам, которых здесь тысячи, растительность густа, высока. Разные колокольчики, васильки и высокие прямые стволы мальвы с большими белыми или розовыми цветами, солодки, низкий тростник и другие растут густо как около каналов, так и на местах, где проходили прежде каналы. Вообще здесь заметно более жизни, хотя грунт тот же, как в безжизненной степи, окружавшей нас за Усеком. Еще более разнообразят и придают жизнь местности огромные поля, засеянные пшеницей, просом, кунаком и джугарой (гаоляном). Особенно красивы высокие кривые колосья джугары со своими широкими, лоснящимися листьями яркого цвета. Смотришь и удивляешься: эту песчаную солонцеватую степь, на которой нет совершенно чернозема, которая сама по себе производит только горький юсан, колючий эбелек, бедные кусты терновников — кустов карагана и ченгиля, эту в высшей степени неблагодарную почву китайское терпение умело победить настойчивым трудом и заставило ее произвести то, что хотел он [человек]. Надо было быть китайцем, чтобы только подумать о возделывании такой пустыри. Но тем не менее он достиг своей цели и достиг легко. Взборонил землю без всякого предварительного удобрения, посеял и пустил по ним каналы, полные водой. Жгучему южному солнцу и живительному влиянию воды он обязан своим существованием.
Вот пример для наших земледельцев Астраханской и Оренбургской губерний, где такие местности считаются совершенно негодными и остаются без разработки. Посреди этих нив мы ехали и удивлялись, а земледельцы-солоны удивлялись нам и нашему узкому платью. Они оставили работу и смотрели, и делали свои замечания. Особенно мы занимали детей. Загорелые от солнца, с черным, как китайская канфа, телом, эти мальчуганы бегали голые и, болтая своими хохолками на бритой голове, бросались к матерям, которые сами, тоже полные удивления, с трубкой в зубах, говорили: «Улус»! (русский).
Жизнь кипела всюду: там и сям стояли временные шалаши солонов, около сидели грязные бабы в китайских рубахах, голые дети жарились на солнце, между тем как муж, покрытый только шляпой, в длинном исподнем платье, молотил хлеб, сидя на лошади и волоча запряженный в нее валёк. По дороге также ехали их обозы. Огромные телеги на двух громадных колесах, наваленные разным хламом, глубоко изрывали песочную дорогу, оставляя от колес неизгладимый до большого дождя след. Погонщик, сидя на облучке странным китайским грибом, погонял лошадь длинной палкой, издавал какой-то дикий, протяжный звук: «Угу… угу…». Иногда попадались одноколки, полные пассажирами, от 6 до 10 человек, запряженные в 6 или 7 коней, на корню был всегда один, а другие запрягались впереди первого.

Встреча китайских и русских чиновников в торговой фактории в Кульдже. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г
Мы было чуть не заблудились: за деревьями нельзя было видеть, где остановились наши ставкой. Тут-то мы стали обозревать окрестность. Налево, очень близко от дороги, шла холмистая гряда, направо вдали виднелась широкой лентой Или и около нее темнели силуэты городов и их окружающей рощи. Это был город Тургенкент, стоящий при впадении Борохуджира в Или. Впереди пестрели отдельными рощами деревья, растущие по арыкам и по прибрежью рек, и пестрели густо, к Или они делались реже и, наконец, совсем исчезали так, что угол, образуемый впадением Усека в Или, был открытой степью. Зато около самой Или виднелись густые и темные леса. Пока мы смотрели в трубки и различали в отдаленных рощах белые пятна от городских стен, один из наших киргизов увидел между деревьями наши белые юрты. Мы ударили в нагайки и, буквально, помчались к своему стану, утешая себя перспективой долгого покоя. Среди кустов ильма (Ulmus campestris), густых ив расположились наши юрты, возле проведен был арык, окаймленный густой зеленью цветов. Облегченные от вьюков верблюды лениво дремали, а лошади, отпущенные на корм, встряхивали гривой, как бы не веря своему счастью и желая испытать, не сидит ли еще двуногий мучитель.
После утомительного и жаркого дня, полного труда, как особенно приятно в прохладный вечер лежать в юрте, в свободной одежде или еще лучше без одежды, и, поднявши вокруг юрты войлок для свободного течения ветра, отдыхать. Это своего рода высшее удовольствие, доступное не всякому. Одно только воспоминание о прошедшем и пережитом усугубляет его во сто крат. Одно досадно — комары, мошки и другие гнусы не дают возможности вполне наслаждаться степным комфортом и делать кейф. Не помню почему, но этот вечер остался в моей памяти по своей чрезвычайной приятности, как лагерь наш при Кудорге во время иссык-кульский экспедиции.
Что-то особенно приятное, успокаивающее было в самой природе. Не холодно и не жарко — умеренная благая середина, чистый воздух, приятные виды и, наконец, эта живописность в самом расположении походного нашего стана, поднятые, почти сквозные, решетки белых юрт, возле костра и вокруг группы казаков с трубками, киргиз, готовящих на угле «тостик» — грудинку или хлопочущих около котла с мясом. Под тенью деревьев в различных позах отдыхают козаки, набросив несколько шинелей на ветви для тени. Возле них стоят копья конусом и ружья на сошках и разбросана амуниция. Около отрядного скарба, мешков с мукой, разных кулей лениво ходит часовой и завистливо посматривает на отдыхающих камрадов. Счугуренные (так принято киргизами на степном языке их называть лежащих верблюдов) верблюды лежат рядком, жуют жвачку, и от их тяжелого дыхания и от испарины поднимается синяя струйка пара. Между кустами разбросанно щиплют траву стреноженные лошади, подпрыгивая всем корпусом, чтобы идти далее. Вся эта картина освещена ярким, чудно розовым светом заходящего солнца; вода, листья на деревьях, летающие жуки, мухи, комары — все это блестит, светится тем же колером.
Спал жар и оживилась природа. Воздух наполнился шумом тысячи разных насекомых, послышалось пение пташек в притальниках… Послышались крики гусей, уток и перепелей в соседних пашнях. Началась какая-то шумная, хлопотливая, полная веселья жизнь, всюду — жизнь, противоположная мертвой тишине дня. Вечер возвратил к самосознанию и наших китайцев, которые все время спали под деревом, точно убитые.
Дулай явился опять с товарищем своим и опять привел двух баранов и [принес] опять риса. На татарском языке, по своему обыкновению лаконически, он «понюхал» здравье большого человека и стал опять доказывать, что подарки непременно следует взять. Вот для редкости образчик его джанголизма: большой человек… дорога далекая… спроси…, хорошо спал. Цзян-цзюнь и хебе-амбань…, скажи… большой человек… юсун бар (есть обычай), есть бараны… есть рис…., кое-что есть. Белый царь, Хуаньди хамиту чиданде… равны, друзья… При этом он сложил два больших пальца и сказал: «Шу янзы». (Шу — татарское слово «вот», янзы — китайское — «сорт». Подобного сорта), и оканчивал: «Ступай, большой человек… скажи… юсун бар — есть обычай!» Для знающих татарский [язык] не излишне было бы привести собственный подлинник китайской речи по своей оригинальной замечательности: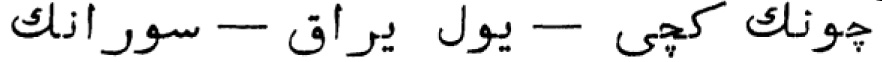

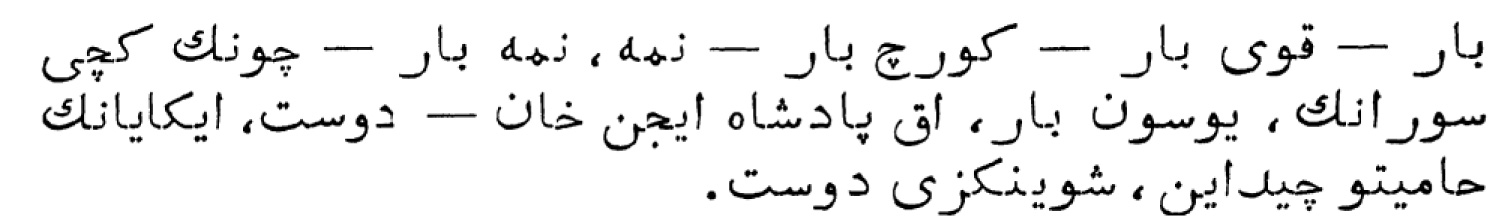
На этот раз домогательства дулая были уважены в последний раз: баранов у нас было много и своих, а взяв их подарки, нужно было отдаривать и их. Чиновники были так довольны этим принятием, что с радости молодецки начали пить ром, который мы им предложили, и напились до того, что пустились в изъявление своего расположения и дружбы, выражая это особенно сильно складыванием ровно двух больших пальцев.
Дуньчи, переводчик, состоявший при них, предложил нам спеть свою песню и просил только дозволения офицерства. Сначала чиновники, действуя согласно этикету, не хотели, но потом сами стали подтягивать артисту. Дуньчи пел по-калмыцки, по-таранчински и, наконец, хватил импровизацию по-киргизски. Солоны живут вместе с киргизами и хорошо знают язык татарский. Всю ночь слышались около скрип телеги и пение калмыков, солонов и удивительный их ямской крик. Китайцы поют довольно приятно […]
3 число [августа].
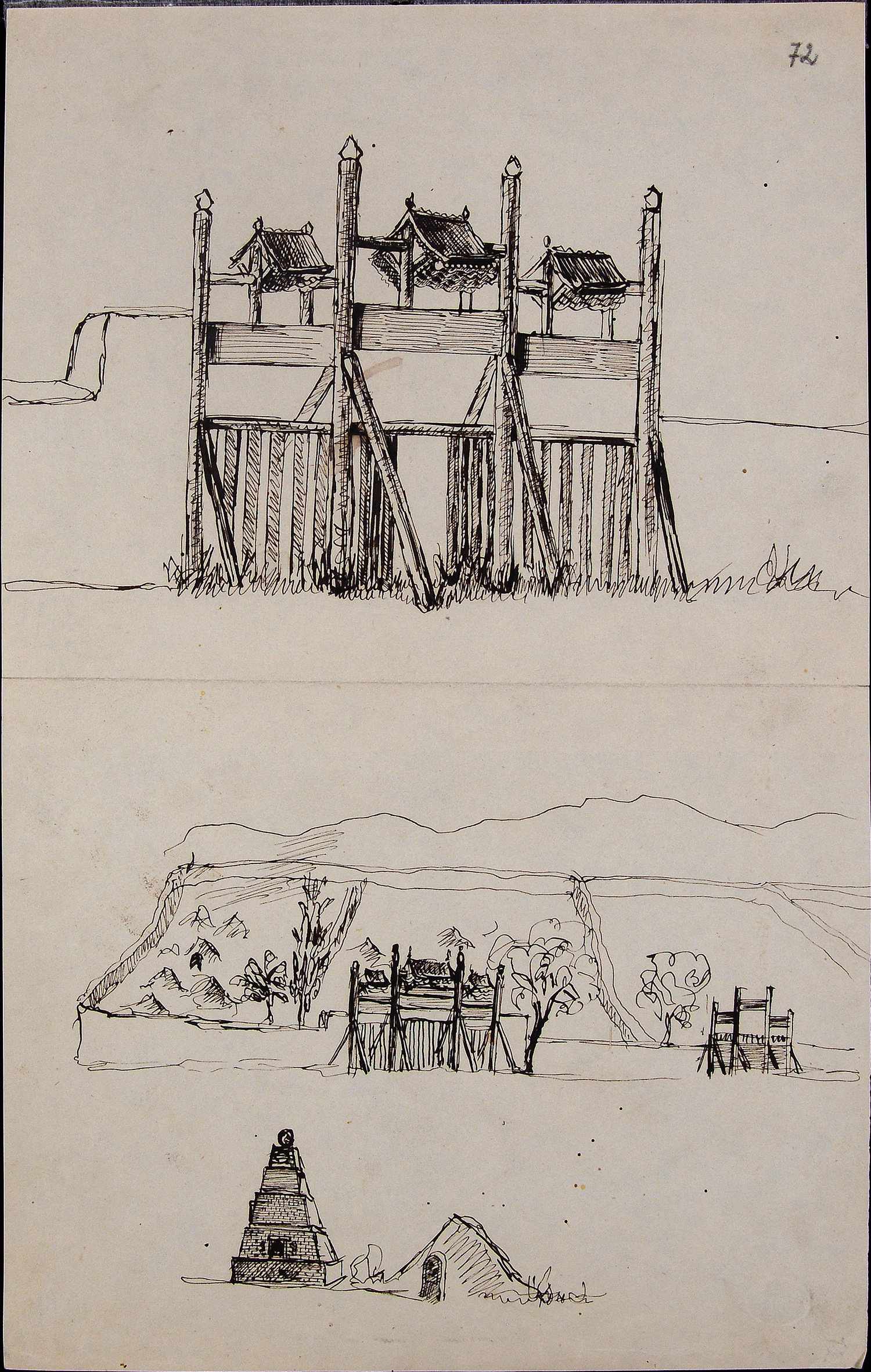
Городские ворота в Западном Китае. Перо. Рис Ч. Валиханова
Весь проезд мы ехали по лескам и по арыкам. Беспрестанно попадались пашни, земледельцы и местами одинокие фермы мызников. Направо мы оставили города Яркенд, Тычкан, место пребывания сибо-занги, полкового майора (киргизы называют его чибчжэен), и шли прямо на Аккент. Мы ехали все по лесу, состоящему из ильма, джигдовника и ивы, мелкий ченгиль покрывал эти места также густо. Кроме растений, попадавшихся на ночлеге, по деревьям вились разные вьюны: хмель (Humulus lupulus), плющеобразный вьюн с белыми волосообразными [стеблями], лиловыми цветами покрывал кусты ченгиля так густо, что казался кучей собранного льна. Изредка попадался барбарис, шиповник (Rosa cinnamonea). Грунт и здесь был тот же, даже местами обращался в сыпучий песок, но вода, обильно разлитая всюду, поддерживала своей влажностью растительную силу этих Habitusoв. Сделав верст 15, мы увидели густую рощу высоких вязов, ив и красивых пирамидальных тополей, между стволами которых белели стены глиняных домов. Город довольно чист по наружному виду, окружен стеной.
Через деревянный мостик, брошенный на ров, мы въехали в город. На улицах, внутри оград домов, всюду росли ильм, ива и тополь, раскинув длинную тень. В городе была невозмутимая тишина, казалось, что мы въехали в необитаемый оставленный антик. Только из-за угла показавшаяся китайская девушка с двумя мальчуганами доказала истину. Солонка была очень смугла, но приятна лицом, на голове торчали какие-то цветы, волосы были убраны a’la chinois назад. На ней было синее китайчатое платье с широкими рукавами, убранными в два ряда белой тесьмой; дети были голы, головы их были «оголены». У одного из них, который был больше, на макушке торчала маленькая коса, а [у] маленького были оставлены [волосы на] одних висках, заплетенные, они походили на рога.
Дух империи — необщительность и замкнутость — выражался в первом городе: каждый дом стоял отдельно и был окружен стеной; казалось, что хозяин заперся в четырех стенах, как вассал средневековой Европы, для того, чтобы не видеть соседей, не говорить. На улицах было очень пыльно. По большим огородам, которые были за городом и на которых работали женщины и дети, и по пашням видно было, что солоны народ трудолюбивый и зажиточный. Храмина их была окружена садом из одних только пирамидальных тополей; резные врата и драконы служили вывеской. Что за красивые деревья эти тополя со своими белыми и прямыми стволами, как приятно рябит ветер их серебристые листья! Так и хотелось бы под тенью их раскинуть шатер и уснуть.

Курильщики опиума. Карандаш. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г.
Странное желание, подумаете вы! Но кто бывал в утомительно долгих дорогах, тот, конечно, поймет всю прелесть этого простого, даже грубого желания. Выбравшись за город, в 3½ верстах от города, мы стали на ночлег и принялись за чай. В городе наши люди успели купить дынь, арбузов, яблок и лакомились ими. Всю ночь нас сильно беспокоили комары.
4 [августа].
Рано. Подъем. Ударил барабан. Нам нужно было переехать наносные пески, образующие всхолмленную гряду, идущую до самой Или. Мы решили этот трудный для лошадей переход сделать при утренней прохладе и, как говорят казаки, по салкынчику. Через три версты оставили мы лесистое урочище Чубаp-агач, которое идет от Усека до гор, и вступили в сыпучий песок.
От ночлега нас провожал китайский офицер с пикета. Мы стали от нечего делать разговаривать с этим старым воином. Он был родом солон и из бохшей-урядников был произведен цзян-цзюнем во второй чин, и был в этом ранге уже полтора года. Старик рассказывал, что они, солоны, служат все в войске и получают чины смотря по отличию. Сам он был в нижнем чине восемь лет и говорил, что сын его должен также начать службу с солдата. Это правило распространяется и [на] потомство их амбаня. Только умершие на войне могут передать свою пенсию сыну. На нем был камышовый колпак конической формы с красным волосом. Это виц-кивер, который служит только на местной службе. Командированный в другое ведомство, он надевает черную шапку с собольим хвостом и пером. Таким образом, разговаривая, мы въехали в глухую средину песков. Здесь они так глубоки, что образуют довольно высокие холмы. Странно, каким образом песок этот мог образовать целую цепь, вроде поперечной стены, как бы насыпанной рукой человека? Пески эти идут перпендикулярно течению [реки] на протяжении 50 верст и в ширину имеют верст 10.
Что за пустынные виды! Кроме громады песка, вы не видите ничего: какой-то голый куст степного растения, называемого киргизами юзген, покрывает его там и сям. Куст этот коленчатый, без листьев, нижние стволы серебристо-белого цвета, а тонкие веточки — зеленого. На нем есть что-то вроде цвета — высохшие листочки совершенно круглые в несколько рядов. Местами попадаются юсан и какое-то желтое уродливое растение с шишковатой иглистой головкой и еще какой-то злак — более решительно ничего. Следы змей, ящериц и крыс переплетаются и образуют хитрую и замысловатую сеть. Несмотря на то, что было рано и холодно, но короткохвостые ловкие ящерицы шныряли тысячами, а в одном месте лежала огромная черная змея. Видно было, что пресмыкающийся гад был полным и единственным хозяином этого страшного места.
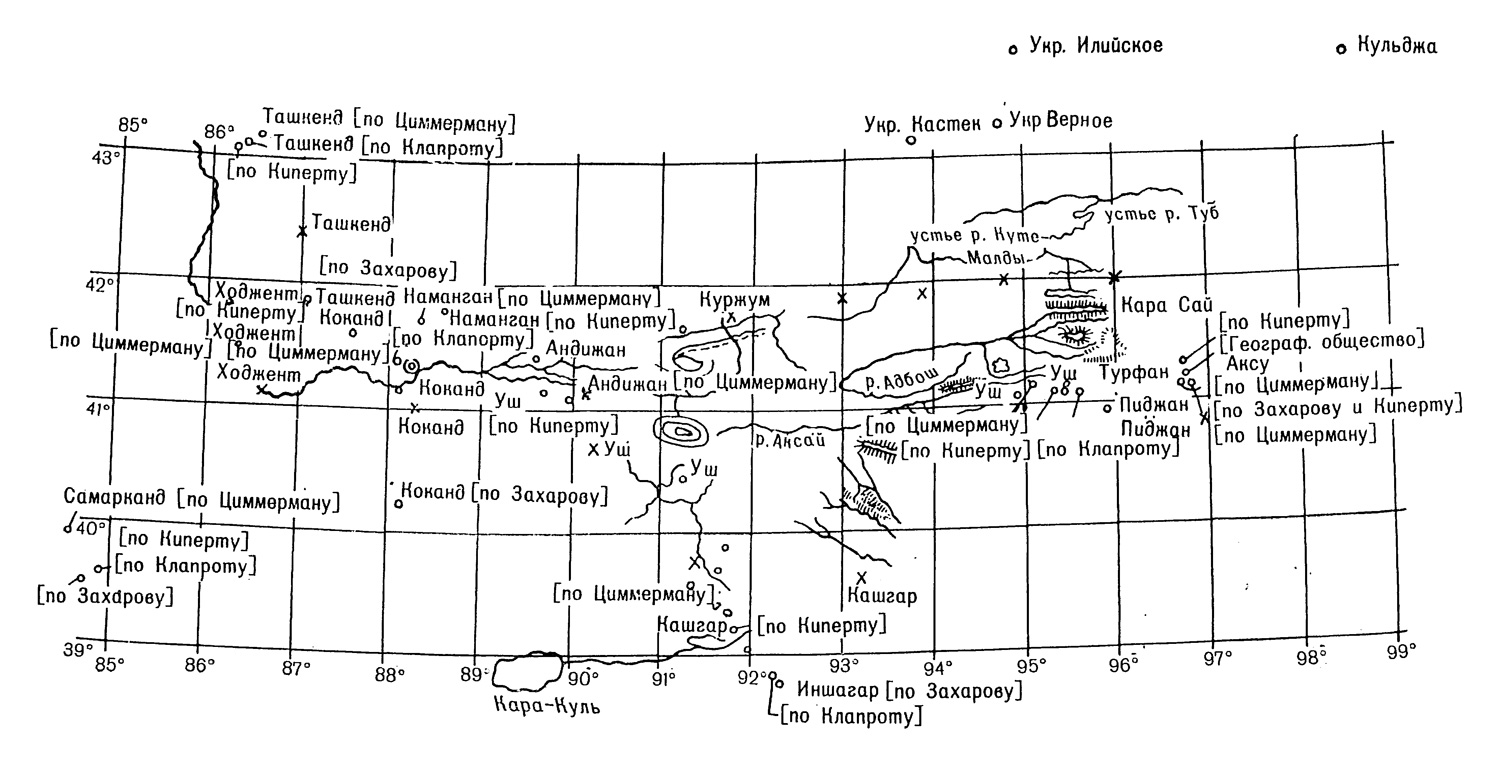
Реконструкция условной карты Средней Азии, составленной Ч. Валихановым
Хорошо, что мы воспользовались утренней прохладой и прошли благополучно эту маленькую сахару. Верблюды любят песок; мягкие и мясистые их ноги ступают на уступчивые пласты песка, как на ковер, но и они заметно устали от беспрестанных подъемов. Много песков в Киргизской степи. Есть пески страшные, на несколько сот верст, но такой мертвой местности нет нигде. На берегах Или, Сыра и Сарысу лежат на огромных протяжениях песчаные пустыни, но жизни в них более: по крайней мере более растительности — саксаулы, джингили, чий и другие кусты образуют целые леса.
Слава Аллаху! Наконец вышли на твердый материк. Удивительно заметный переход [нас] спускает с последнего песчаного холма, и характер местности резко изменяется: нет последовательности и переходов. Опять открылась ровная степь, но с другими растениями и с другим оттенком. Грунт сначала был каменистый — из галек и мусора. Джингиль – растение из породы божьего дерева с неизбежным в степях ченгилем разнообразило местность своими красивыми кустами. Чем далее, тем степь принимала характер, сходный с прежде пройденным; но деревьев ильма и джигдовника было мало, если и были, то в виде мелкого куста. Переходя реку Xоргос, мы терпели сильное нападение от бесчисленных полчищ комаров, которые своей многочисленностью образовали над нами густую тень. От усиливающейся жары другая тень была бы очень кстати, только не та, которую образовали комары. Нисколько не преувеличивая, смело можем сказать, что при Хоргосе мы чуть не сделались жертвами кровожадности этих насекомых. Густые камыши и береговая растительность, увлажненная водой, скрывала и рождала этих «нарочито гнусных тварей».
За рекой стоял китайский пикет, офицер которого встретил нас и провожал до ночлега. В виду грязных стен среднего поста мы разбили шатер, напились чаю и уснули глубоким, богатырским сном, хотя под головой у меня был просто погребец, утлы которого сильно врезались в затылок. Я ничего не чувствовал и спал непробудно, как султан на мягких диванах своего гарема, уткнувшийся в роскошные и нежные формы какой-нибудь «розы наслаждения». Действительно, мне грезилось что-то в этом роде. Я чувствовал давление под головой, но мне снилось, что [это] была белоснежная рука красавицы, обнявшей мою голову. Я чувствовал жар, но мне казалось, что это ароматичное дыхание моей временной собеседницы. Нечего говорить, что мне было страшно досадно, когда разбудили и сказали, то верблюды уже на ночлеге.
Чем далее [мы] углублялись в Китай, тем более заметно было жизни и населения. Так, теперь перед нами прямо и налево виднелось несколько китайских городов и селений, или правильнее, синели рощи, в которые, в буквальном, в тождественном смысле слова, были погружены эти города. Надо отдать справедливость китайцам в этом случае, если б среди гадкой голой степи торчали бы одни стены их земляных низких домов, то и самый путь для странника, утомленного пустынной окрестностью, был бы во сто крат несносен и труден, как поездка по какой-нибудь нубийской долине. Зато что за удовольствие чувствуете вы, подъезжая к этим зеленеющим оазисам после той открытой для палящих лучей солнца беззащитной степи. Мы имели удовольствие проехать около одного из таких, так сказать, купающихся в роскошной зелени садов-городов — Хоргоса. Направо оставляли в 2 [верстах] расстояния город Чимфанзе с гостиницей для путешественников. Направо же, вдали, около гор, виднелось много подобных зеленых точек: то были селения солонов и сибо — Купчан Верхний, Средний и Нижний.
Хоргос есть главный город поселения; в нем живет полковой командир из сибо, называемый хожуртай, старший по амбаню, [подчиненный] бригадному генералу, который живет в Иле при цзян-цзюне. Он состоит из трех отдельных садов, т. е. форштадтов, отделяясь на версту один от другого. В Чимфанзе есть сады и огороды. Там купили наши люди яблоки, персики и разные овощи. Замечательно, что в поселениях мы ели огурцы, похожие на наши, большие и сочные, нисколько не походящие на китайский уродливый тонкий кияр. В трех верстах от города, на реке, обросшей камышом, мы стали на ночлег. Около нашей стоянки был мир. Пешие, верховые китайцы, китайцы в разнаряженных экипажах, запряженных в разнородные животные, переезжали взад и вперед беспрестанно, подобно муравьям, хлопочущим в муравейнике. Всю ночь слышен был скрип их огромных, должно быть, худо смазанных кунжутовым маслом колес и крик погонщиков. По временам праздный сын Срединного цветка затягивал свою песню. […]

Базарная харчевня в синьцзянском городе Кульджа, русская гравюра второй половины XIX в.
В числе проезжавших особенно обратил наше внимание какой-то лоя, не столько сам он, сколько его экипаж. Мы второй раз увидели китайскую господскую одноколку. На двух колесах был посажен кузов, вроде миниатюрного домика, с окнами по сторонам. Он был обтянут синим холстом, и колеса были окрашены под тот же цвет. В корню и к нему, как говорится, гусем (иначе не ездят в Китае) были запряжены два лошака, увенчанные колокольцами. Над коренной стоял зонт из четырехугольного куска холста, он был прикреплен одним концом к верху кузова, другим — к двум сошкам, перпендикулярно воткнутым к концу оглобель. Впереди ехал, как и всегда, вершник, передовой, сзади был конвой. Кучер шел, как подобает сану всякого порядочного человека, возле экипажа пешком с длинной палкой [и] по временам пугал лошаков. Вообще ехали тихо, с достоинством. В первый раз это нас занимало, но впоследствии увидали столько чудес в подобном роде, что не раз клали палец удивления в уста и все упование возлагали на аллаха. Машаллах!.
Комары были здесь так же неугомонны, как на Хоргосе, так что встав утром, [мы] чувствовали страшный зуд и изъян по всему лицу. Весь вечер я ходил с ружьем, но был ужасно несчастлив, слышал под ногами крик перепела, а найти не мог.
5 число [августа].
С камышистой речки, которая, между прочим, ознаменовалась открытием водяных змей, мы по направлению WSW прошли через пикет на деревню Урда-Хоза, где в тени огромного ильма, покрытого множеством воробьиных гнезд, разложили ковер и стали отдыхать под нежное воркование голубков, которых было тут довольно.
Надо сказать о дороге. Направо, около гор, мелькало множество рощиц; чем ближе к Иле, [тем они] делались гуще и гуще. Одна из этих рощиц есть оболочка мусульманского городища Темир-Кутлухан, со знаменитой гробницей этого хана, который считается святым. Дорога, по которой ехали мы, идет через засеянные пшеницей, кунаком, джугарой казенные поля или же по кочковатой и изрытой местности, по которой обильно растущие бурьяны, чертополох (Cirsium lanceolatum), подорожник (Plantago major) и остатки разных злаков доказывали, что и по ним ходила соха. При нас подняли фазана, но старания наши отыскать его были тщетны: он бегает быстро и скоро исчезает в густой траве. Огромные стволы деревьев и разрушавшиеся стены оставленных мыз угрюмо смотрели на наш проезд.
Под одним деревом сидели мусульмане — пахари — и ели свою скудную лепешку. От влияния ли солнца, под которым они жарятся круглое лето, или это заключается в породе, как бы то ни было, туркестанцы Шести городов чрезвычайно черны и имеют авганский тип лица. Впалые, углубленные глаза, тонкий и изогнутый, как турецкая сабля, нос, узкие губы и бедренная худощавость отличают их от других среднеазийцев. Влияние Китая отразилось на них как нравственно, так и наружно.
В противоположность жителям Западного Туркестана, славным на мусульманском Востоке своим фанатизмом, столица которых Бухара называется священным именем «неугасаемого светильника истинной веры» и которая в сущности есть притон, вертеп ханжей-улемов, ишанов-серебряников, спорящих в продолжение нескольких лет только о наружных обрядах веры и которые из недр своих медресе изрыгают на всю территорию мусульманства мулл-изуверов вроде Мансурова, казимулл и других в этом роде лицемеров, так, в противность мусульманам названным, они более веротерпимы и не так привязаны [к] внешней рутине обрядности. Хотя, конечно, шаткость и нетвердость [в] вере ведут иногда за собой и нравственную деморализацию, но кашгарцы в основных, коренных принципах веры, может быть, сильнее какого-нибудь Мевлеви.
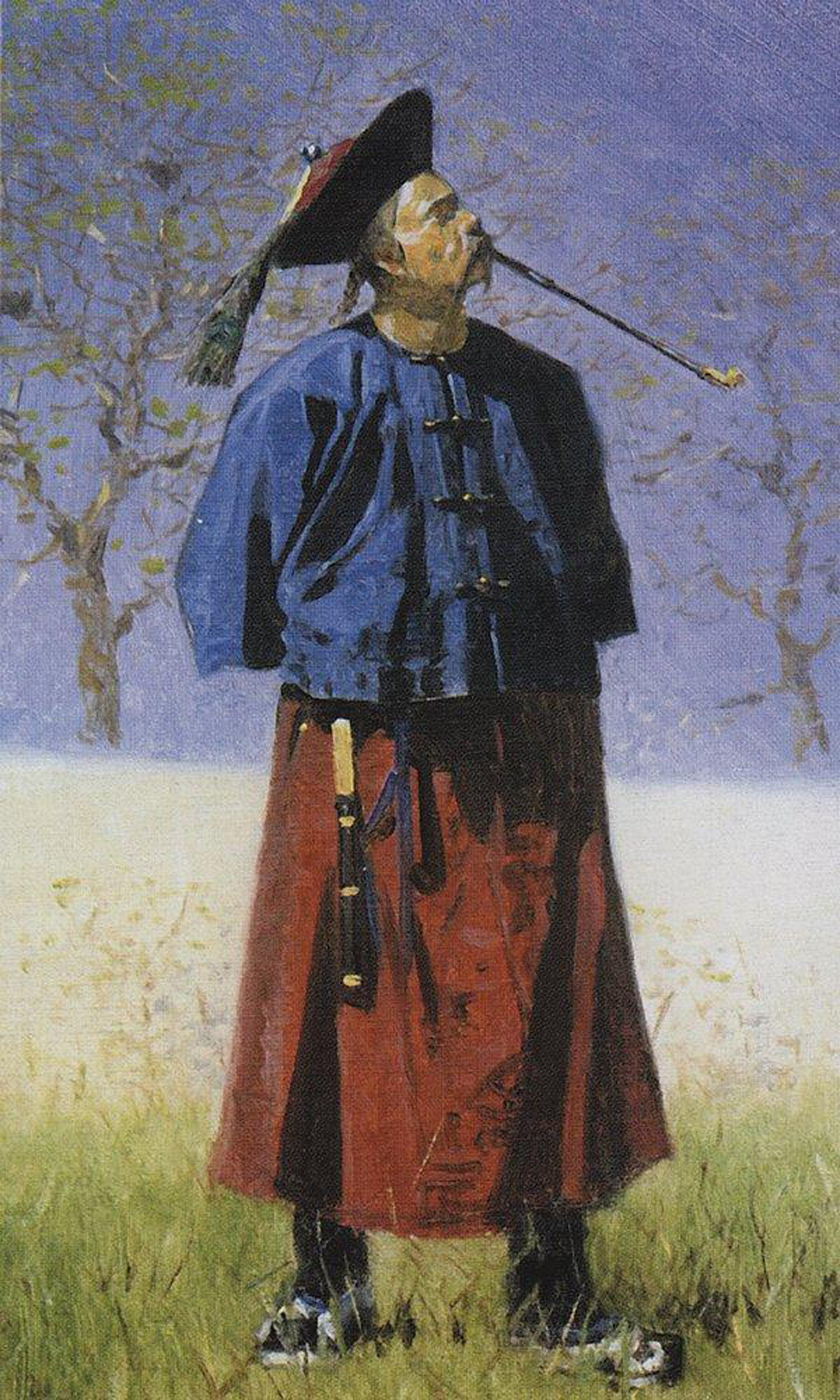
Цинский офицер. Рис. В. В. Верещагина
К числу хороших сторон кашгарского нрава надо отнести свободу женщин, которые участвуют во всех публичных собраниях и даже более — без них не может быть собрания меджлиса. Что же касается до наружного влияния китайской цивилизации, то оно ограничивалось тем, что украсило бедро каждого таранчи ножом, палочками для еды и голову — китайской шапочкой с кистью. Народ этот никогда не пользовался совершенно свободой; влияние этого рабства и зависимости наложило на их лица печать какой-то угрюмой и печальной безнадежности.
Обратимся к нашему рассказу. Между тем как мы, сидя под деревом, скинув сюртуки, наслаждались прохладной тенью листьев, любопытные китайцы собрались около костра, где нам готовили обед. Более правильные лица солонов заметно отличались от совершенно монгольского типа шампанов. Шампанами называются ссыльные на поселение и в каторжную работу преступники из внутренних губерний. Эти истые потомки династий Хань (так называют себя китайцы) имели удивительно узкие с косоватым разрезом глаза, плоский, едва выдающийся нос и широкие скулы. Роста они были среднего, худощавы. Редкие клочки волос едва заметно торчали над широким ртом и на остром подбородке. Манджуры, сибо и солоны высоки ростом, плечисты, сложены очень плотно и тонки в талии. Лицом они походят более на наших башкир, чем на китайцев. Между ними нередко попадаются лица довольно правильного овала и с поднятыми носами. У нашего приятеля дулая даже замечается в носе излишняя массивность. В числе глазевших был один бохшо, урядник из солонов, человек, по-видимому, зажиточный, судя по платью, и неглупый, принимая в соображение замечательную толстоту желудка.
В Китае вместилищем разума принимается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то очевидно, что у вас замечательный ум. Это факт, в истине которого, со времени династии Цинь, ни один китаец не смел сомневаться, да и смешно было не верить тому, что 2х2=4. Этот бохшо, по-видимому, сильно тщеславился своим «умом» (как же не гордиться явным выражением своего превосходства). Он пристально всматривался в наши желудки, чтобы узнать степень нашей мыслительной силы, и, увидев поджарые наши субъекты, он презрительно отвернулся и особенно гордо заковылял, из чего было ясно, что о нас, русских, составил мнение самое невыгодное относительно умственной силы.
В числе свиты «гениального» бохши был шампань, старичок с плутовскими глазами. С ним были две резвые молодые девушки, его дочери. Маленькие шалуньи бегали около нас, скакали и резвились, точно егозы. На них были коротенькие китайчатые рубашки, исподнее платье и башмаки. Лоб был обрит, а остальные волосы были убраны назад. Какие-то цветы, вроде астры, были кокетливо приткнуты на их маленькие головки. Девушки были очень недурны собой, разумеется, в китайском смысле. Я взял в руки сахар и стал их манить, повторяя единственно мне известное китайское слово «хауле!» (хорошо). Мои китаянки продолжали егозить и махали мне руками, приглашая к себе. Отец маленьких, узкоглазых нимф, увидев нашу эту сцену, как человек бывалый и высокопрактичный, живо сообразил, что всякое подаяние благо, и потому, взяв дочерей за руку, он подошел к нам и сказал: «Хауле! Здорово — бухе». Он сел и стал рекомендоваться, что он уроженец Гандуна (Кантона) и потом показал на свои скулы, обращая наше внимание на синие пятна, клейма, которыми был отличен при ссылке. Мы хорошо поняли, как он попал в Западный край.

Китайская конная повозка. Снимок 1875 г.
Между делом я начал было пантомимный разговор с юными красавицами, но решительно ничего не мог сказать. Китаянки очень забавлялись и при каждом моем жесте звонко хохотали, приговаривая: «Хау! (Хорошо!)». Мне чрезвычайно нравилась детская простота и естественная веселость этих безыскусственных детей природы. Как они были рады и как весело грызли данный им сахар! Одна из них даже погладила меня по голове, сказав: «Хороший господин русский». П. дал им две серебряные монеты. Господи! Как непритворно радовались они блестящему металлу, как жадно побрякивали их в руках и показывали отцу, и хвастали: одна говорила, что у ней лучше и новее, другая, — что у ней. Отец улыбался и благодарил нас низким поклоном. «Улюс — славный человек», — кричали дети, подбегая к толпе, и для совершенного удостоверения слов показывали деньги. О золото, золото! В Китае и дети знают твою цену.
Шампаны народ трудолюбивый: по дороге с поля и с пашен шли они беспрестанно. Одетые легко, в широкополых блинообразных шляпах, они несли на себе то срезанный мусуй, то чий или камыш для циновок. Вообще, праздных было мало. Зеваки, смотревшие на нас, составляли исключение. Это были или народ чиновный, как «умнобрюшный» бохшо, или старики, или же дети.
Наш казак, посланный вперед в Кульджу, приехал назад и отрапортовал, что «консул изволит-де ожидать Вас в деревне в 10-ти верстах». Не знаю, как мы проехали деревню; пыль, поднятая на улице перевозчиками каменного угля, была так же густа, как всякий непроникаемый мрак. Запах от лука, перца и дым трубок носился в этой стихии на земле и не давал дохнуть; крик погонщиков то долгий оу, оу, оу…, а то вдруг резкий пур, пур, пур слышался всюду. Казалось, что сейчас попадешь под одно из этих громадных колес и сделаешься так[им] же мягким, как избитые куски мяса для beefsteaks’y.
Урда-Хоза — деревня чисто китайская: в ней есть все, что должно быть в каждом порядочном местечке Поднебесной империи; есть в Урде-Хозе целый ряд харчевен и ресторанов, есть оборванные шампаны, есть трубный дым, лук, и все это как следует покрыто густым туманом пыли, и по улице стоят телеги и слышатся крики. Словом, уличная [жизнь] кипит и в разгаре. Весь народ сидит под навесами ресторанов и пьет на последний ярмак чай и [ест] суп с луком и стручковым перцем.
Сколько рож проходило мимо нас! В конусообразных шляпах и в шляпах наподобие блина шампани, голые телом, несли снопы гаоляна или воду, курили свой джен-дой и глупо улыбались, иные же хитро подмигивали, как будто говоря: вы что за люди, вот посмотрите на нас. Непостижима уму самоуверенность китайца. Он никогда не похвалит все, что не китайское. Попробует шампанское и спрашивает, где мы купили их джу, рисовую водку.

Сом. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г.
Селение это было самое грязное. Под навесами домов сидели оборванные сыны Срединного цветка, пили чай. На улице стояли огромные фуры с каменным утлем. Волы, запряженные в уродливую таратайку с колокольцами, поднимали густые облака пыли, так что не было возможности видеть едущих подле. Дикий крик погонщиков раздирал ухо. Наш чиновник дулай гордо объявил, что это сборное место для всех проезжих и что дом под навесом, где чаевали, есть гостиница, и спросил, есть ли у нас такие заведения. Сделав верст 15 по степи песчано-глинистого свойства, мы въехали в другую, более опрятную деревню. Налево, около подошвы горы, виднелись две рощи. Это был город Гомту, называемый Темир-Кутлукхан. Там погребен какой-то мусульманский угодник. Ближе к нам осталась деревня Чучкалы. Деревня, в которую мы приехали, называлась Тарджи. Она населена шампанами и таранчи — кашгарскими переселенцами. Хлеб и джугара, мусуй здесь были лучше и [занимали площадь] обширнее, [чем в] других мест[ах]. Черные, как угли, с правильными чертами лица мусульмане в белых рубахах пололи хлеб и пугали криком стаю ворон, которые летали в таком множестве, что затмевали солнце. Среди деревни протекала речка, образующая пруд, где купалось несколько мальчиков. Они не обращали на нас особенного внимания. Русские ездят с матой, и русские им не в диковину. Здесь ожидал нас консул, и мы отлично провели вечер. На лугу около деревни гуси подняли страшный крик и зазывали наших охотников к себе. Пока мы пили чай, на яру собрались китайцы, закурили трубки и на почтительном расстоянии начали с высоты обозревать нас, не выражая, впрочем, особенного удивления.
Китайский офицер, встретивший нас от имени цзян-цзюня, и другой, доставлявший провизию, провожали нас в дороге. Они имели на голове черные колпаки с хвостом соболя и с шариком. Черный колпак означает дальнюю командировку. Караульные офицеры, провожающие от своего поста до следующего, напротив, ехали в конусообразных соломенных шляпах. Это значило, что они исполняют местную службу. Впереди всегда ехал один солдат в халате с луком и колчаном. Это передовой вершник, называемый китайцами дин-ма (гвоздь-человек), неизбежный провожатый всякого порядочного человека. Офицеры же ехали верхом, согласно официальной десятитысячной церемонии, тихо и курили ганзу. На Борохуджире мы ходили в пикет и обозревали его достопримечательности. Пикет окружен глиняной четырехугольной стеной. На западной и восточной сторонах его посажены деревья, так что самого пикета за деревьями нельзя видеть. На восточной стороне был вход через восточный садик. В саду стояла тумба и на ней [было] что-то вроде клетки для птиц. Офицер маньчжу объявил, что это храм бога земли, и действительно, в клетке сидел деревянный божок в образе женщины. При входе в ворота нас поразил страшный запах чеснока и особенный приторный запах […], похожий на запах погреба.
Несколько собак поразило нас после вступления в зеленую ограду стражи своим враждебным расположением, но меры, принятые солоном-солдатом, остановили дальнейший ход их. Впереди стоял ряд домов с черными крышами, это был офицерский флигель. Направо и налево стояли казармы и при них солдатская кухня. Большие двери, огромные окна со множеством клеток, оклеенные бумагой, грушевидные карнизы дали [возможность] отличить их своеобразие.
Внутри на голой земле были устроены нары, где в беспорядке валялась солдатская амуниция: сапоги, обвертки и другие принадлежности обиходного употребления. Офицерский флигель отличался от казармы только маньчжурскими надписями. Мы вошли в первую тесную комнатку — это была приемная. Офицеры просили взойти на нары, и один из них для указания дороги взгромоздился на свое седалище и, поджав калачом ноги, начал рукой колотить по твердому потнику, заменявшему постель. Делать было нечего: уселись [и] мы. Обменялись трубками. Офицер приказал подать чай. Солдаты, собравшиеся тут для увеличения компании, принесли медный кувшин и чашки, украшенные сотнями запаек, налили черный густой кирпичный чай. Из вежливости мы начали хлебать.
Вечером в 7 часов, накануне Преображения, т. е. 5 августа, мы въехали в Кульджу. От первого караула Борохуджира до Кульджи тянется степь самая бесплодная, пустая, песчаная. Нам, русским, не пришло бы в голову иметь в этой пустыне селения, мы не знали бы, как можно устроиться тут, не подвергая лишениям переселенцев. Но китайское терпение победило все. На всем этом пространстве заселено много жителей; стоят 8 городов и несколько деревень, в которых путнику, разумеется, не заходя в дом, приятно отдохнуть под тенью высоких деревьев, пирамидальных тополей, осеняющих весь город, который весь спрятан в этой роще; дома все глиняные, с виду опрятные, улиц не существует, но каждый дом говорит за всю империю и характеризует ее сомкнутость и несообщительность. Всякий дом обнесен, как весь город, глиняной стеной и, кажется, загородился для того, чтобы не видеть своего соседа и не говорить с ним.
По прибытии нашем в Борохуджир нас, по повелению цзян-цзюня, встретил чиновник торгового двора дулай, рассыльный, что-то вроде чиновника особых поручений; он имеет белый шарик. Потолковав немного, мы расстались с чиновником, воспользовавшись двумя баранами, 10 фунтами риса и таким же количеством муки. На утро в сопровождении китайского и своего конвоя в церемониальном порядке, во вкусе китайцев, двинулись далее. На всяком ночлеге офицер наделял нас провизией, от которой нельзя отказаться и которую нужно отдарить впятеро.

Набросок плана г. Кульджи. Рис. Ч. Валиханова
7-го числа нам сделали визит один генерал, два подполковника и несколько офицеров, с которыми помучились ровно три часа. Решено 11 августа начать переговоры.
От нечего делать я начал осматривать комнатку. Направо была дверь, а на полу, на камне, курился огонь. Черный, как трубочист, солдат с засученными рукавами стоял у дверей и курил трубку. Должно быть, он исполнял должность кашевара. Дверь налево была полуотворена и по тесноте можно было полагать, что это кладовая. Мы стали просить, чтобы нам показали божницу. Офицеры с живостью согласились и с трубками во рту отправились в западный сад, отворили калитку. В саду стояла храмина, окруженная стеной, с воротцами, разукрашенными надписями и фигурами. Перед храмом стояли два столба; направо у ворот, под навесом, стоял на пьедестале колокол, налево — бубен. Два солдата начали бить палочками, один — в колокол, другой — в бубен, должно быть, для предупреждения фо о приходе гостей.
В самой божнице было три двери, завешенные занавесями, посредине стол с солью, чашкой, на резной полке прямо в нише в широком шелковом халате сидел жирный бог Гуань-лоя с золотым лицом, китайским типом лица; длинные, узкие усы, борода и бакенбарды доходили до пояса. Грудь его была открыта. Направо у стола стояла белая узкоглазая богиня и держала чрезвычайно нежно меч, или лучше, на руках был перекинут меч. Налево стоял черный, как китайский кауговый сапог, бог с большими на выкате глазами и злобно улыбался, обнаруживая ряд гнилых и длинных, как у кабана, зубов. В правой руке пучеглазый фо держал алебарду, хитро разукрашенную, левая нахально упиралась в бедро. Одет он был в куртку и, вообще, был страшно дерзок. Богиня была вполне женственна, кроткое лицо хотело как бы спать, а сабля, лежащая на руках, сильно ее тяготила. Сибо и солоны, занимающие караулы, исповедуют религию фо, и храм этот был их фо.
Сибо и солоны занимают все пограничные караулы Западного края и составляют народ военный, и получают жалованье, вроде наших казаков. Солоны переселены были из Даурии и из провинции Сахаляньям еще при первом покорении Джунгарии, а сибосцы присоединились к ним после кашгарского бунта для подкрепления. Военные поселения их расположены от Кульджи на север по Или до пограничного караула империи. Они управляются бригадным генералом Абебу, который в качестве одного из колдаев — советников — живет в Или. Хожуртай есть полковой командир, родом из сибо. Сибо и солоны делятся на 8 полков, а полки управляются зангями, имеющими степень синего шарика (штаб-офицер). Солоны занимают места, близкие к Или, а сибо — к горам. Лучший и самый воинственный народ в империи – это, конечно, они: постоянная служба и отношения с киргизами и калмыками поддерживают их дух. Годичная служба [проходит] в Тарбагатае и Кашгарии (Шести городах).
Каждый сибо и солон обязан служить и службу начинает солдатом. По-киргизски они говорят все чрезвычайно хорошо, и многие утончены до того, что импровизируют стихи в чисто киргизском духе. Вот названия 8 поселений сибо и солонов….
С Тарджи мы решились вечером ехать в Или — Кульджу — через степь, изрытую арыками и покрытую пашнями гаоляна, проса и кустарником ильма, тополя, чия, высоким ковылем. Мы ехали мимо илийских садов, в пыли, и провожаемые консулом в Кулъдже. От Чучкалы к горам до Сайрамкуля, где кочуют калмыки, чахары и торгоуты, рощи учащаются садами. При приближении к берегу Или поднимаются песчаные холмы, совершенно голые; лошади с трудом, падая, выносят ноги, и песок засыпает глаза. В этот [день] мы сделали верст 50 и въехали ночью в факторию.
Вот наглядная картина проехавшей местности.
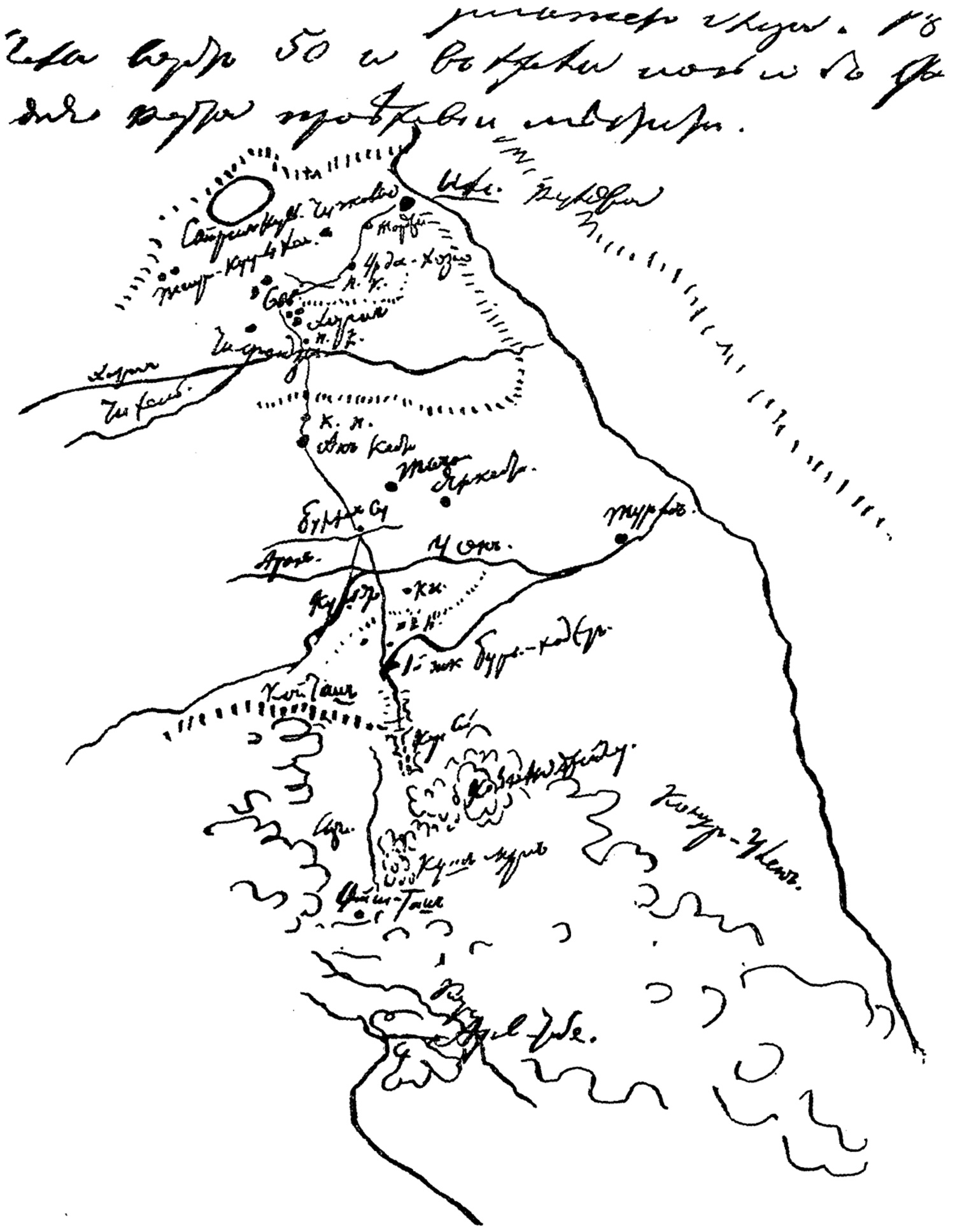
Русская фактория основана в Кульдже и Чугучаке в 1852 году для выгод нашей азиатской торговли. Китайцы отвели для наших строений песчаный берег Или за Сарыбулаком, считая его невозможным для поселений. Надо отдать справедливость консулу, что он сумел из такой местности сделать то, что представляет теперь его прекрасная фактория.
Фактория состоит из огромного каменного с мезонином консульского дома, дома для секретаря и прислуги, гостиного ряда, торговых номеров, бани, разной службы, двух казарм. Все это окружено множеством стен с входами в китайском вкусе.
Так как рабочие были китайцы, то невольно замечается в фактории пестрота и смешение европейского с китайским. Так, например, дом консула имеет ставни разноцветные и на крыше сидят два страшных дракона. Крыши всех других домов глиняные, в китайском вкусе, с резными желобами и украшениями. Мебель сделана из ильма, в общих формах напоминающая европейский рисунок, но [в] частностях, в отделке ножек заметна китайская угловатость. Чистота бросается в глаза после грязного Или, где дом цзян-цзюня есть не что иное как калоша. Китайцы все удивляются искусству русских, цзян-цзюнь завидует заметно. При фактории есть сад, устроенный консулом для испытания китайских огородных овощей и плодов. К несчастью, песчаный берег Или обрушивается ежегодно и теперь до консульского дома остается 40 саженей. Жаль!
Мы приехали в Кульджу 5 числа, 7 имели удовольствие видеть китайских чиновников, с которыми надлежало нам иметь дело.
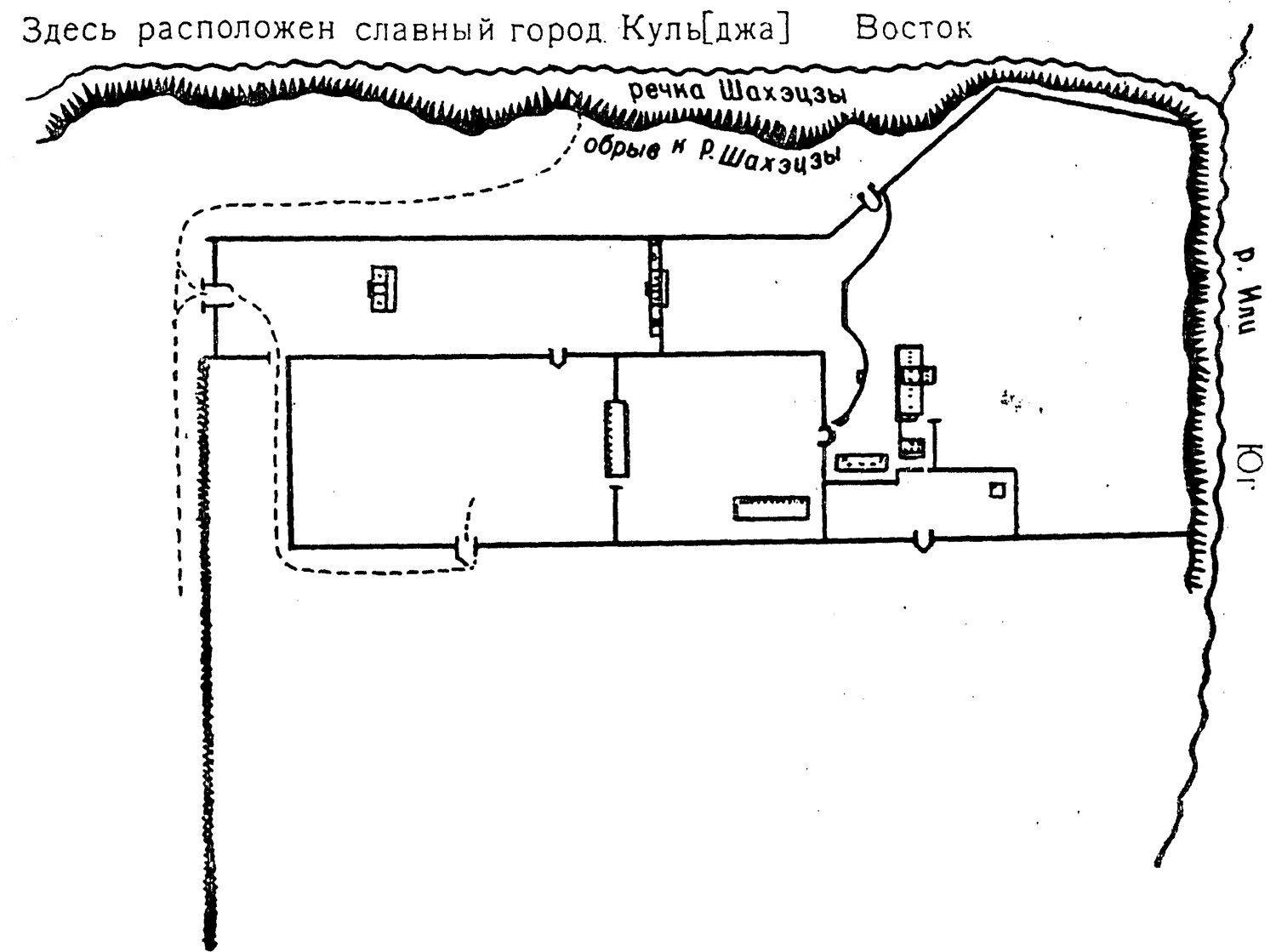
Реконструкция плана г. Кульджи из текста дневника Ч. Валиханова
Туде-жень, или попросту туголдай, первый торговый пристав, коголдай — его помощник, штаб-офицер по части снабжения войск провиантом, блюститель благочиния, числом 6 человек въехали в церемониальном порядке на своих кабриолетах в факторию. Нечего говорить, что неизбежный гвоздь-человек торчал перед каждой арбой, и каждая арба конвоировалась двумя солдатами. Все арбы были запряжены на мулах; когда подъехали к воротам, гвоздь-человек подставил скамейку и слепой туголдай, поддерживаемый двумя господами, сошел и, подходя к консулу, согласно китайскому выражению степенства, искривил свое лицо, выказывая зубы; это значило, что он делает физиономию радушия, гортанные звуки, вроде крика ворона, маньчжурское приветствие, доходило до наших ушей. Мы стояли в мезонине и по этикету должны были представляться после. Когда чиновники уселись в зале и обнажили головы (т. е. сняли шляпы), [мы] вошли. Они живо соскочили и, покрывшись шляпою, начали подавать руки, между делом «нюхая наше здоровье». Осведомившись о здоровье государя… Г. Г., они спросили, какова дорога и сыты ли мы в настоящий час. Быть сытым означает степень нашего здоровья, ибо больной человек не имеет аппетита.
Уселись по местам. Принесли чай и фрукты. Туголдай бывал у консула и потому щеголял перед нами знаниями русского языка; вместо китайского «буцо» он всегда говорил по-русски «короши», а потом вынул из голенища сапог трубку не столько для курения, ибо с чаем китайцы не курят, но для того, чтобы спросить по-русски огня. «Огня», — закричал тонкой фистулой старичок, — и, довольный сам собой, смеялся, похваливая сам себя по-русски, — «хороши, хороши». Все гости начали курить, или лучше, вонять: курить китайский табак — это значит курить «ассу-фетиду». Пока мандарины пили и разделяли один кусок на два, подавая половину нам, а половину проглотив сами, я стал их осматривать.
Туголдай — худощавый старичок с подслеповатыми узкими глазами, украшенный огромными очками, с ястребиным носом. Рот у него был несколько крив, и верхняя губа имела вид треугольника, основанием которого служили концы, а вершиной средина. На этих губах торчало несколько волосков, и острый и сухой подбородок был гладко оголен. Крошечные и замечательного сочетания сине-буроватого цвета с кофейным зубы выглядывали из-под губ. Он не по летам жив и чрезвычайно разговорчив. Одет он в шелковый халат, опоясан черным пояском, на котором висят мешочек с табаком, веер.
Коголдай бледен, голова его лишена вовсе затылка, плоска, как доска, на лицевой стороне которой привинчены глаза, нос, рот, а на другой прикреплена коса. Он как будто не успел оправиться от испуга. Глаза как-то болезненно живы, и они блуждают то направо, то налево, как глаза кошек, которыми украшались старинные стенные часы.
Зато провиантный мандарин, [о] котором между делом будет сказано, пахнет мукой, любит говорить по-татарски, наделен в излишке задним черепом, который прирос к его голове, как иногда срастаются два огурца или арбуза. Словом, по всем правилам прироста голова его была бы <не малая>, а говоря [языком] правосудия, нужно было китайскому «фо» подарить свой затылок.
Смотря на плоскую коголдаеву голову и на задний нарост нашего провидмейстера, казалось очевидно ясно, что он попользовался затылком насчет коголдая. Блюститель благочиния был по глазу своему настоящим китайцем, а утонченными жестами с особенным способом зажимания и открывания глаз придавать тайные значения своим словам обнаруживал свое классическое образование. Он был студентом философии. Остальные господа имели лица удивительно глупые, недостойные внимания.
Напившись наших вин, как было заметно по выражению узких глаз, не без удовольствия, почтенные мандарины после трехчасового визита отправились по домам. Надо сказать, что туголдай под влиянием винных паров декламировал стихи: «На небе есть рай, на Усоле — Шанхай». Мы проводили их до дверей.
7 число [августа].
От цзян-цзюня через дулая получили подарки. Дулай, как человек не без образования, понимающий дело, тотчас устроил процессию. Впереди шел сам с реестром подарков, написанном на красной бумаге. За ним шел китаец и держал вверх ногами на палке связанную свинью. Бедное животное было так измучено дальней дорогой и необычайной позитурой, что только похлопывало длинными ушами. Второй человек нес на руках, согнувшись, как бы великую тяжесть, горшок с пастилой, третий — корзину с плодами, четвертый — мешок риса. Процессия в этом порядке стройно вошла на крыльцо, где они были положены напоказ также по старшинству: свинья занимала первое место. П[еремышльскому] следовало непременно войти и посмотреть. Подарки китайцев стоят втридорога: нужно было их отдарить. Чиновник маньчжу не решился сам принять и поехал с докладом к цзян-цзюню, и, пришедши от него, объявил, что цзян-цзюнь и хебе- амбань, его товарищ (китаец если говорит цзяи-цзюнь, то непременно присоединяет к нему и хебе-амбаня и в бумагах своих ставит рядком) готовы принять наши подарки, ибо русские и Срединное царство находятся в дружбе. При этом дулай, по обыкновению своему, сложил два больших пальца ровно и тем выразил практически свою идею.
8 [августа].
Скука здесь страшная: представьте, что вы заключены в четырех стенах, хотя и свободны, но не можете располагать собой, некуда идти и нечем заняться. Сегодня за обедом Иван Ильич рассказывал о синологах наших, [получивших] образование в Пекине. Китайцы Пекин называют Бейцин, что значит Северная столица. Архимандрит Каменский, живший с миссией18… года, был пострижен в монахи из чиновников при отправлении миссии.

Китайские ворота в Кульдже. Снимок конца XIX века
Он со дня отправления в путь вел путевой журнал, в который записал все свои впечатления, мысли, выборки из читанного и назвал его «Мешок». По возвращении своем из Пекина он отдал его в Азиатский департамент, где он покоится поныне. В этом «Мешке» было все. Отец Каменский в досужий час перевел стихами китайскую религиозную мистерию Ин-Ян, т. е. мужское и женское начала в природе. В таком роде: Ин захочет, Ян и вскочит, Ин тому рада, и им взаимная отрада.
Отец Иакинф был побочный сын м. Амвросия, который происходил из дворянской фамилии.
Будучи 26 лет архимандритом Иакинф вел жизнь разгульную, буйную, так что Амвросий ходатайствовал об отправлении его в Пекин, думая, что он среди дальнего народа не будет иметь возможности шалить. Известно всем, как кончилось его пекинское поприще. Лишенный сана он попал в Волоколамский монастырь, где прожил 15 лет. По ходатайству Азиатского департамента и барона Шиллинга, он был освобожден… для оставления при Министерстве иностранных дел. Отправившись с бароном Ш[иллингом] в Кяхту, он начал хлопотать о снятии с него рясы, чтобы сделаться светским человеком. Но упорство прокурора и сената, которые подняли опять его дело, остановили успех его намерений, и он остался при министерстве. Отец Иакинф, по свидетельству синологов, знал хорошо китайский язык и факты, сообщенные им, заимствованы из официальных документов империи. Сами китайцы не имеют лучших [исследователей]. К несчастью, отец Иакинф имел слабость впускать в текст свои мысли и догадки, не отделяя их от китайских данных. Спор его с Клапротом о восстановлении правильного чтения китайского тюгюдулгас и тюко (тюрки) Иван Ильич обещает это разъяснить с надлежащей ясностью по возвращении в Петербург.
Отец Аввакум, говорят, человек замечательный, прямой и честный, чуждый искательства чести и чванства. Он обладает большими знаниями и делится ими со всеми, которые обращаются к его советам. Господин Васильев тоже имеет сведения разнообразные и подготовил много материалов.
9 [августа].
Китайский язык состоит из односложных звуков у, ау, дау, хау, мау, зау и пр. Каждый из этих звуков имеет несколько значений. Есть слова, имеющие 500 значений. Например, звук хой, встречающийся часто в китайском разговоре, имеет 214 значений. Китайская грамота и язык — вещи отдельные, без той связи, как у нас. Каждое значение, а не звук, имеет свое письмо. Звук хой имеет 214 разных письмен, обусловливающих 214 его значений. Посему можно читать китайские книги, не зная языка.
При переводе встречаются очень часто слова, употребляемые не [в] прямом значении. Например, вы читаете: правитель десяти тысяч семейств. Не все китайцы постигают тонкость исторического рассказа, чтобы сказать, что это тьма народа, управляемая темником. Страсть к созвучию слов существует и в Китае. К[алиновский] говорил, что он недавно читал путевой журнал какого-то китайца, ездившего в Аксу (один из семи городов туркестанских). Он пишет: «В Юаньской истории сказано, что монголы покорили асов Кинчу [Кипчак], нет сомнения, что асы Юаньской династии суть Аксу — один из семи городов Восточного Туркестана».
Сегодня за обедом был сом. Странно, что присутствие его у нас на Или не было замечено. От Кульджы вверх он попадается, по свидетельству рыбаков китайских, очень часто.
Кстати, о провизии: мясо здесь дешево — фунт скотского стоит 4 коп. серебром, баранины — 5 коп. Покупают наши у хой-хой (китайских мусульман). Китайские курицы породы, известной у нас под названием голландских кур, бывают весом до 10 ф. Известные китайские гуси с хрящевым красным рогом на носу, невкусны, имеют мясо грубое.
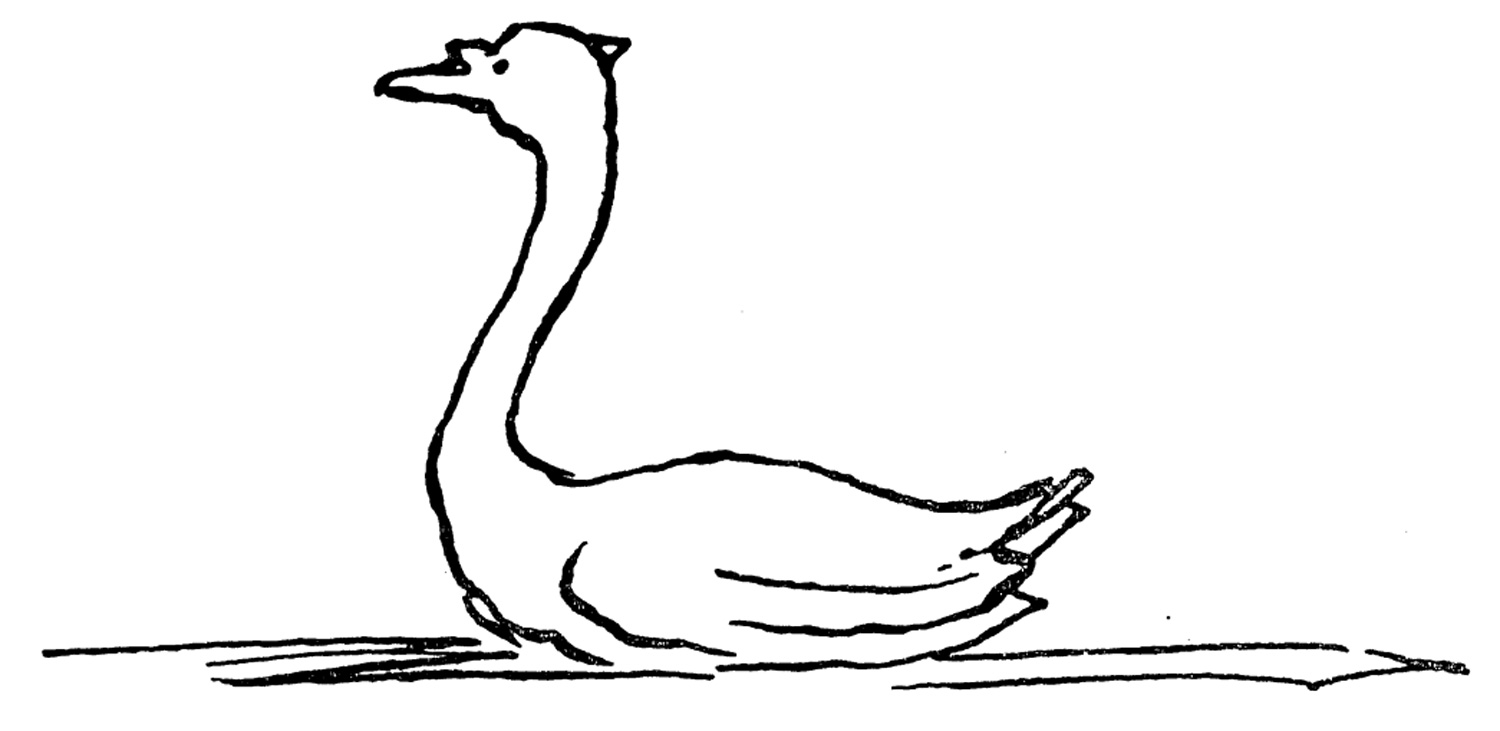
Утки обыкновенные и не отличаются от наших. Из плодов здесь преимущественно разводятся персики трех пород. Одни из них величиной бывают с большое яблоко, с пухом, другие же малы, кожица гладкая и цвет красноватый, третьи — плоские, чрезвычайно вкусны. Их нет даже в Пекине. Первый получил свою величину от прививки, а последние вкуснее. Груши хороши: бергамоты уступают нашим. Яблок много, но нехорошие. Груши кульджинские очень вкусны и напоминают французские жюльетки. Гранаты и вишни редки. Абрикос разводится в садах и во многих местах растет дико, созревает совершенно в июле. Виноград разных пород: белый, большой продолговатый, другой же грубый, имеет цвет пурпурово-фиолетовый, и еще мелкой породы, называемой на востоке кишмиш. Есть также коринка (коринский виноград, черный мелкий). Из огородных овощей есть здесь дыни желтые и кашгарские зеленые с ароматом. Зеленые дыни считаются лучшими (комульские), есть еще белые и так называемые зимние. Они могут пролежать до марта — всю зиму — и удобны для перевозки. Арбузы желтые и нехорошие; замечу, что от грунта почвы и красные перерождаются.
Огурцы имеют вид стручковый, но при солении изменяют вид, делаются желтыми. Китайский вьющийся картофель растет большими корневищами. Луковица сараны, род лилии или тюльпана, имеет вкус, похожий на картофель, но более нежный. В Монголии он употребляется всеми в пищу. Есть у китайцев странный плод от прививки абрикоса с жужубом — китайскими финиками, называемый ши-цза…, высушенный этот плод вкусом напоминает наши винные ягоды, имеет два семени, вроде бобов.
10 [августа] был у нас китайский купец, имеющий торговлю с русскими купцами. Он говорит, конечно, с неизбежным у китайцев носовым прононсом по-русски. Он все записывал, что слышал. Кстати, анекдот, слышанный мной здесь: один любознательный китаец увидел шарманку и захотел узнать, как она называется по-русски. Ему сказали — орган. Он вынул живо мазилку, мазнул по кусочку туши и написал по-русски аркан, сделавши своими каракулями объяснение, что так русский называет…
— Кахо, вы здолов, — спрашивал он нас. Когда же мы спросили его, как чувствует он себя, он отвечал: «Молодец! Улус (русский) — хоро-ши чи-ляу-вик», — говорил он, льстя по-азиатски. Рассказывал что-то о своем императоре, но за обильными вставками слов чисто китайского словаря и по особенному способу его выражений нельзя было понять: «Импелятол цирдзил на голофу отшик-ни ляудно! By-и… сказал в Или пошел — бедный ло-хань (старик) Ханту на войни выл, Ханту жил в Беджин, хорошо янзи (роду) чи-ляу-вик» и проч. Какой-то главнокомандующий за поражение от инсургентов был сослан в Или, лишен шарика, и при нас получен был указ богдыханский о возвращении его назад.
Китайцу понравилось, видимо, складное зеркальце, и он начал его вертеть в руке, умильно рассматривая и похваливая: «Хороши янзы! Москоу янзы… а?» Когда же я предложил зеркальце ему, он этикетно отказывался и вместе с тем уверял меня, что у меня умное сердце. Я отвечал ему в китайском вкусе, что у него добрый желудок.
11 числа [августа].
Сегодня начались переговоры. Привезли они с собой обед, который состоял из 100 блюд. Повара привезли с собой печь и у порога резали продукты и готовили, выражая тем, что все это целое и свежо. За подобную предупредительность они получают награждения. Бог знает, что тут было: поросенок занимал первое место, каракатица и пауки, пирожки, утка, сваренная до безвкусия nec plus ultra; все это было в излишке приправлено перцем и луком. Я был болен и не имел удовольствия участвовать на этом обеде.
О Шикья-Муни: бурхан его, хотя и в грубо чувственной форме, но выражает высокую (разумеется, в буддизме) идею вечного блаженства. Что есть будущее блаженство и чему оно подобно? Шикья-Муни говорил на это, что блаженство это есть ничто, бытие не бытие, и в объяснение этой превыспренно хитрой идеи приводил причину в наглядном примере чувственного слития мужчины и женщины. В момент исхода семени мы не чувствуем, [но и] не забываемся; это что-то безотчетное, это бытие и не бытие, это-то ничто есть подобие вечного рода. Бог тоже, по толкованию Шикья-Муни, ничто, бытие не бытие. Глупцы те, которые представляют его в формах и тем ограничивают его силу.
Идея о слиянии в христианстве и буддизме достойна внимания: в Александрии, где была школа философов и где изучались все религии, конечно, знали и буддизм, и христианство; бывший и воспитывавшийся в Египте мог позаимствоваться. Особенно поразительны обеты монашества и их уставы.
15 числа [августа].
Все эти дни я страдал ужасно: болели зубы. Для испытания [я] обратился было к китайской медицине; из аптеки привезли какой-то белый порошок вроде золы — листья и корень какой-то пахучей травы, — но помощи не было. Как я страдал! Это ужасно. Мне кажется, что нет болезни более мучительной, как эта проклятая боль зубов. Вчера ездили в город.

Дунганская могила в Кульдже. Снимок конца XIX века
Начнем рассказ последовательно. Проехали мы верхом, впереди ехал урядник в качестве нашего дин-ма — гвоздь-человека. При самом выезде через речку Сарыбулак (китайцы называют ее Ша-хе-цза) направо увидели большое здание мао-тин-цзя и налево — кладбище. Нет в мире народа более неприхотливого относительно выбора последнего помещения для умерших, как китайцы. Могилы их в виде низкого конуса разбросаны повсюду: около нашей фактории, на улицах, на берегу, под мостом, словом — везде. А для кладбища отведено место, окружено большой стеной и двумя разукрашенными вратами. Мусульмане в этом отношении представляют диаметрально противоположный контраст китайцам. Никто столько не заботится о великолепии могил, как они. Приятно смотреть на мусульманское кладбище и на памятники, красиво отделанные, испещренные надписями из корана, на луну и чалму, украшающие их. Все это в зелени, кладбище — это сад. Оттого-то на востоке местом прогулок служат кладбища.
Не помню, как мы въехали в улицу. Улица была узка, тесна и грязна. Направо и налево были стены, в которых местами стояли открытые ворота, в перспективе которых виднелся двор, дом с неизбежным навесом, под ним со сморщенным, оливкового цвета лицом сидела […] китаянка, курила трубку, и у ней волосы были убраны назад, и у ней была шпилька. От страшной духоты не было возможности ехать. Казак повернул на главную улицу. Улица эта сравнительно была шире других. Направо виднелись зубчатые стены крепости с бойницами вроде наших китайских беседок, налево она составлялась задними стенами китайских домов. Окна многоклетчатые, расположенные без всякой симметрии, бросались в глаза. Под стенами домов шел ров, заваленный сором и навозом. Это все еще было хорошо. Поравнявшись с воротами крепости, мы свернули на улицу, что идет около божницы. На улице несколько китайцев сидели на корточках — я долго не мог понять, что они делают. Наконец встает один из них и начинает одеваться […].
Нечего говорить об атмосфере подобной улицы. Наконец въезжаем на базар.
Базар китайский не есть площадь, как у нас, это улица, с той разницей от улиц обыкновенных, что здесь передний фасад домов смотрит на улицу, а там — задний. Словом, это огромная улица с лавками или навесами по обеим сторонам. Посредине улицы, во всю ее длину, сделано возвышение — шоссе шириной для одной телеги, и около проведены перила. При самом входе в улицу, под навесом одного дома, стояли на короткой привязи несколько лошаков и лошадей. От нетерпения бедные животные грызли дерево, на которое были положены их головы, топали ногами, и, увидев нас, или лучше наших лошадей, праздные мулатры из дома толстокожих подняли дружный крик, дикий и хриплый, вроде ослиного рева.
Китайцы кормят лошадей в день только два раза, дают одну меру малую, а все же остальное время они стоят на привязи с поднятыми высоко головами. Удивительно тонко воспитаны эти лошади и без ведения в принципах десять тысяч церемоний, tel maitre — tel valet. Гортанные крики разносчиков, мелких торговцев, скрип телег, топот коней, бубенчики и пронзительный звон колокольцев — все это сливалось в один дикий и шумный гул.
Пестрота была ужасна. Под навесами домов были лавки с мелочью, с готовым платьем; огромные флаги, вроде наших церковных хоругвей, развевались над некоторыми лавками. В качестве вывесок на одной из [них] был изображен страшный по величине сапог с белой подошвой, возле стояли тоже рисованные синие надраги, как называл их Петр Петрович, род чулок выше колен. Перед лавками сидели еще торговцы; на столах стояли корзины, полные винограда разных сортов: синего, белого; яблоки невкусные, груши, абрикосы и персики громоздились также на корзинах. Арбузы, огурцы длинные, тонкие, безобразные извивались уродливо, точно исполинского размера бобовые стручки, дыни довольно вкусные — все это было положено горой.
Торговец сидел под огромным зонтом в острой своей шляпе, и, что называется, казал товар свой лицом. Несколько спелых арбузов и дынь были разрезаны и стояли на виду — хозяин беспрестанно помахивал над ними веером из конского хвоста. Над ним стоял огромный зонт, укрепленный на жердях в три сажени длины, и, смотря по течению солнца, он склонялся все косо и косо. Под навесом в рядах стояли столы, заваленные кругом разными мелочами: китайские трубочки, кисеты, чубуки, табаки, веера, разные бляхи, зеркала и другие мелочи. Вокруг их все кипело народом.
Сколько было тут разнообразных лиц, сколько одежд! Сидел тут под навесом купец в курме и сером длинном халате, и был тут и андижанец, так называют здесь всех среднеазиатских жителей в чалме, с круглой, черной, как воронье крыло, бородой, и с правильным лицом кашгарец в белой рубахе и в одном аракчине, угрюмо смотрел из-под насупленных бровей. Глаза у него были темные, нос у него был изогнут, точно дамасская сабля.
Оборванный таранчи, земледелец из мусульман, выселенный в эти провинции для службы китайским чиновникам для возделывания им земли, с наслаждением сосал только что купленный арбуз. Он был черен, как негр, а зубы у него белы, как жемчуг. Маньчжур с прямыми заспанными глазами, храбрый китаец, сосланный из южных губерний, с узкими глазами, с плоским носом, с черными и кристаллическими зубами, в белой короткой рубахе, засаленной до того, что казалась она лощеной клеенкой, кривоногий калмык в меховой рысьей шапке и стянутый поясом — все мелькало тут, все шли куда-то, у всех на лицах забота, все как будто заняты, в руках у всех звенят китайские монеты ярмак, нанизанные на нитку, и тряслись, точно наша колбаса. И все это курит, все смеются и приветствуют. Маньчжур меняется трубкой со своим родовичом и говорит ему: «Ганза-фина, акху». Китаец, как скворец, работает горлом и глотает звуки. «Менду!» — кричат калмыки. Явление наше произвело немало движения: все заговорили. «Улус! Улус!» — слышалось всюду, и пошли толки и разборы, как странно одеваются варвары. Особенно понравилось мне замечание одного шампаня, каторжного, который, увидев металлические пуговицы форменного сюртука, заметил своему товарищу: «Посмотри, — говорит он, — сколько на русском лое (господине) ярмаков».
Часто сталкивались мы, [находясь] в своей узкой палатке, с колымагами, в которых сидели дамы. Узкоглазые дщери Поднебесной империи были разукрашены и ужасно набелены, кокетливо водили своими глазками и нежно помахивали веером, или же некоторые, вероятно, из цеха тех красавиц, которые известны в Китае под названием разрушительницы городов, вдруг начинали хохотать и так сильно, что цветы, венчающие их головки, колыхались и падали, как бы сильным ветром сорванные с корней.
Доехали мы, наконец, до гостиного дома, где нам нужно было купить кое-что; гостиные дворы устроены тут же. Направо и налево вы видите во все протяжение крылец двери — это входы в гостиные дворы. Вошли в узкий двор, убранный кирпичом. Несколько оседланных лошадей стояли тут же на привязи. Очень красивы на вид эти дворы, но только нечистоты и запах имеют свой — китайский. Широкие узорчатые окна, разукрашенные карнизы, огромные двери, разные надписи и пестрота и легкость всего ensembl’a производят приятное впечатление. Тростниковые двери особенно красиво подняты и пропускают свежий воздух; матовая бумага, заменяющая стекла, дает тоже какой-то мягкий и приятный для глаз отсвет.
Хозяин встретил нас у дверей и просил садиться. Внутри магазины их довольно чисты. На стенах стояли зеркала, картины с изображением какого-то жирного мандарина с длинными донельзя и редкими донельзя усами и бородой. Висели также длинные свитки с маньчжурскими надписями. В другом месте висели трубки, мохнатки. На гвоздях висели счетные книги. Впереди был устроен нар, на котором валялась постель, кошомка-коврик и грязная подушка. Перед наром стол, в середине которого утвержден медный таз с углем, — это заменяет печь. На огне этом стоял китайский медный кувшин с чаем. На другом столе стояла чашка с табаком. Направо от дверей был длинный стол, как у нас в лавках, за столом были котлы, старательно закрытые занавеской. На этом столе лежали китайские счеты, на которых они действуют с неподражаемой скоростью. Говорят, что они на счетах своих делают все четыре правила арифметики. Над столом была перекинута жердь с ножницами и перламутровым ножом для разреза бумаги, в которую заворачивают вещи. Мы уселись частью на нарах, частью на уродливых креслах. Подали чай с леденцом. Все вещи, которые мы просили, они вытащили из-за драпри. Оказалось, что у них решительно нет ничего. Вследствие внутренних беспокойств и бунта [они] обеднели. Между тем хозяин стал нас просить зайти к нему в другую половину и выпить чаю: мы согласились — любопытно посмотреть на китайское угощение. Мы вошли в другую половину, менее нарядную, — это было его жилье. На низком столе, что на нарах, были уставлены чашки с разными фруктами и овощами, подали трубки, кальян и чай. В жилье видно было более беспорядочности, следы постоянного пребывания отразились на нем особой атмосферой и особой неурядицей: засаленные аракчины, кисеты, трубки, курмы висели в беспорядке. Хозяин был очень внимателен, беспрестанно подливал чаю, просил нас, чтобы принатужились. «Хе! Хе! Пей», — говорил он, указывая на чай. «Зи!» — указывал на арбуз. В числе фруктов поставил он китайских фиников — жужбу, род орехов, внутри которых есть семя с мясом. Орехи эти, называемые ли-чжи, двух родов: одни — мужского рода, коричневые с призматической шишкой и называются, собственно, ли-чжи (Liri chini), другие — желто-табачного цвета и гладкие, называются драконовый глаз (луньянь).
Хозяин был до того радушен и гостеприимен, что просил нас у него обедать и хотел послать за «разрушительницами городов». Без этих нимф в Китае не обходится ни один обед. Они поют песни, играют на трехструнной лютне, а главное своим влиянием поддерживают веселость компании. Вы не хотите есть, она начинает вас просить, обвивает вашу голову, говорит нежно и музыкально: кто же может противостоять этим красавицам. Они затевают игру, и проигравший ее должен непременно пить вино. Как ни заманчива была для нас новизна подобного обеда, но мы отказались: нам нужно было на этот раз осмотреть базар.
Между тем пришел какой-то разбитной господин с живыми манерами, в очках, говорил много и сильно, смеялся непринужденно и делал, смотря на нас и указывая на нас, какие-то замечания, должен быть очень юмористического свойства, ибо все присутствующие заливались общим смехом. Остряк уподоблял кого-то из нас англичанам, которых он видел в Кантоне, и сказал, что у него на голове огонь. Видно было, что это столичный франт, щеголяющий перед губернской сволочью. В других магазинах было то же, с малым отличием только в комфорте. В магазине фарфоровых вещей мы попали в общество таких нахалов, которые бесцеремонно дергали, щупали нас и заглядывали в лицо так близко, что спиртуозная атмосфера рта с прибавкою лучного запаха била в нас, как отрыжка шампанского. Особенно надоедал один сухопарый господин из провинции Киан-си. На нем была короткая белая рубашка выше пояса, тонкие ноги его были обтянуты в узкие надраги так искусно, что сзади исподние его висели хвостом, как длинный курдюк отощавшего крымского барана.
Наконец, мы предприняли обратный ход восвояси и выбрали улицу ашбузумов, как называется здесь она на смешанном языке китайско-татарском от татарского слова аш — обед и китайского — фузул. Такие смешения здесь встречаются часто. От китайцев услышите нередко «худа джен-де — бог даст, бог поможет». Слово «худай» они позаимствовали у мусульман. При самом въезде в эту часть города нас поразил далекий шум, гул и жаркий удушливый запах кушаний.
Вся улица обставлена домами, которые со стороны улицы не имеют стен и открыты. Народу здесь было как в муравейнике, кишмя кишели, как говорил мой учитель татарского языка. Здесь был весь город, исключая из этого числа маньчжуров-чиновников.
Замечательно: китайцы живут, как римская чернь, площадной, уличной жизнью; он с утра до вечера бьется на базаре, там он обедает на ярмак сытно и там же спит. Если бы не эта дешевизна и не эта доступность, то, нет никакого сомнения, что все оборванцы и бедняки, которыми так обилен Китай, вымерли бы давно от голода. Народу тысячи, и все это народ рабочий, дельный, трудолюбивый, но что же делать? Нет работы. Сколько рабочих рук пропадает даром! Сколько полезного народа. Труд здесь ставится в ничто. Китаец за 100 рублей складывает каменный дом, который бы стоил у нас 300 рублей. Вот до чего не ценят они труд и время. У вас избилась посудина, вы бросаете, ибо она не способна ни на что. Нет, китаец возьмет, отдаст починить. Мне случалось видеть маленькую полоскательную чашечку, на которой было 150 мелких металлических скобок — на это нужно было, непременно, труда несколько дней. Это стоит ему несколько грошей. У нас за такую работу, конечно, никто бы не взялся и задаром, впрочем, никто бы не отдал, ибо чашка эта сама по себе стоит 20 коп.
Лето для китайца рай: он может ходить голый и спать где ему угодно, тень садов представляет ему прекрасный ночлег; но зимой он страдает сильно: здесь не то, что в Китае — стужи и бураны свирепствуют сильно, и всегда после них несколько хохлатых голов торчат из-под снега и лежат так до лета, когда обнаженный труп не бросят в Или, или зароет тут же полиция. Вот оттого тут беспорядок, в каком встречаются могилы.
Обратимся к нашему рассказу. Под навесом этих домов устроены лавки и на них сидят тысячи человек и обедают. Несколько поваров, как угорелые, вертятся около котла, жарят, парят, кипятят. Что за неряшество, что за грязь: один берет воду и моет свое лицо в той чашке, из которой моется, наконец, кончив мытье, берет эту же воду в рот, полощет и выплевывает, еще передает [чашку с водой] другому — тот делает то же и передает третьему и т. д., пока не обойдет всю эту компанию и [вода] не обратится в черную краску, годную хоть на окраску китайских гробов. Около середины улицы, близ подмостков, под зонтами, тоже устроены рестораны: стоит очаг и на нем варится суп с вермишелью, жарится свинья, рис, приготовленный кашей, стоит на блюдах — это делается для проезжающих и для соблазна их глаз. Действительно, эти рестораны так близки [к] дороге, что вам остается только протянуть руку, чтобы получить хорошую порцию супа, заправленного до чрезмерности луком и перцем. На нас это имело другое влияние — не было возможности дохнуть от горячих паров супа, от жара очагов, а главное от запаха китайского чеснока. Красные, как бураки, морковь, бобы, горох, арбузы, огурцы предлагаются тоже к вашим услугам. Мусульмане — китайцы хой-хой, имеют свою кухню и кормят мясом чистых животных своих собратьев и приезжих мусульман. Их гостиницы имеют более порядка; по крайней мере, здесь нет того облака дыма от вонючего китайского табака, как там. Наконец, мы обрадовались отменно, когда выехали из этой кучи народа, из вавилонского смешения языков. На обыкновенных улицах совершенно нет народу, только женщины бредут уточкой на своих копытцах, и дети бегают взапуски. Мальчики и девицы китайские очень хороши в молодости, но зато, что за безобразие — мужчины в летах зрелых.
Улицы эти представляли нам немало затруднений. Весь сор со дворов был выброшен и сложен на улицу, так часто в некоторых местах он достигал довольно большой степени развития и нам нужно было пробираться через него осторожно. Лошади то и дело оступались в этот рыхлый навоз. Столько впечатлений новых, но нельзя сказать приятных, вывезли мы в первый свой визит во внутрь города.
На дороге при возвращении попались нам уже все наряды семейства таранчи. Черный чанту ехал с дражайшей своей половиной, не менее его черной. Дочь недурна лицом, но также смуглая и слишком объемистая, или, как говорят сами чанту, слишком красивая, бойко сидела на коне, закрывая и заполняя собой все существо его, кроме головы и хвоста. На ануше был пестрый халат с прямой широкой на груди тесьмой, как на венгерках шнуры, под ним был короткий жилет, вроде курмы, и также с тремя шнурами. Голова красавицы была обернута в ситцевый платок.
18 число [августа].
На днях было второе совещание. Удивительно хитрый народ «китаны». Слово «мандарин» дано португальцами: трудно узнать, от какого китайского слова взято. У китайцев, как на сословия, весь народ разделяется на мин и чен. Мин — это чернь, а чен — все служащие, собственно, оно значит — слуга царя. Кстати, от чего происходит русский чиновник? Одни говорят — от церковного чиновник (мальчик, читающий перед архиереем, что означает обрядчик, урядник). Другие же производят его от китайского чен.
Иля, или, как называют мусульмане, Кульджа, по официальным актам китайцев, есть главный город Илийской провинции. Здесь сосредоточено все управление Западного края, т. е. провинций Тарбагатая, Или и Семи городов.
Цзян-цзюнь есть вице-король, или генерал-губернатор края и главный начальник всех войск, здесь расположенных. Хебе-амбань есть его товарищ и советник. Тарбагатаем управляет губернатор [укуртай]. В Иле есть, кроме китайских властей, и туземные чины — хакимбеки. В мусульманском городе Старая Кульджа есть хакимбек, в Урумчи — тоже, в Турфане — тоже. Семь туркестанских городов управляются своими хакимбеками, один из них имеет достоинство вана. Он происходит от того Исхака, который помогал китайцам при убиении Джангира. Торгоутские тайши управляются через китайского пристава, но один из них имеет тоже наследственный титул вана и свои права. Под председательством цзян-цзюня состоит главное илийское правление, и торговые дворы — под председательством приставов.
Народонаселение Или составляют: туземные мусульмане, кашгарцы и таранчи. В городах живут маньчжу — чиновники и китайцы. Сибо, солоны составляют военное поселение. Около Сайрамкуля кочуют калмыки из рода чахар, а на Текесе — роды из колена олет.
Мусульманские поселения здесь основаны еще во времена джунгаров для снабжения их хлебом. Первое поселение есть Кульджа Старая. Сибо, солоны — переселенцы из Маньчжурии. Солоны — народ родственный с даурами из пограничной линии из округа Сахалян-ола, суть смесь маньчжуров с даурами, а сибо — среднее между собственно маньчжурами и солонами. Они переселены сюда со времени завоевания края.
Таранчи (что по-маньчжурски значит пахарь) суть крестьяне, переселенные из Восточного Туркестана. Они обязаны заниматься хлебопашеством, снабжать им войско. Материалы для этого они получают из казны: соху, плуг, быка. Ужасно положение этих бедняков. Калмыки считаются в военной службе и состоят при пикетах пограничных в качестве табунщиков по 10 человек.
Китайцы илийские — или купцы, поселившиеся для торговли, или мастеровые, пришедшие на время, или же ссыльные. Последние под названием шанбань [шанпань] населяют многие деревни, обрабатывают рудники, состоят при городах для работ. Это народ отчаянный, буйный, люди, ничем не дорожащие, для которых, что называется, жизнь — копейка. Несколько раз шанбань производили бунты, называемые здесь по-азиатски джанджал. В прошлую зиму в Кульдже произошло восстание, но маньчжуры, предуведомленные прежде, начали преследование и избили их несколько тысяч. Половину перевешали, часть потопили в реке, часть же их убежала на юг, к границе с Киргизской степью к горе Калкану и, говорят, укрывается там до сих пор. Между китайцами есть мусульмане, называемые хой-хой. Это потомки тюрков, переселенных в Китай еще за три столетия. Они утратили свою народность, носят китайское платье, косу, говорят по-китайски, но имеют свои мечети и содержат намаз. Мечеть построена как китайская кумирня, и китайская надпись глаголет, что это храм божий. У них свои муллы, называемые ахун. Бога вместо аллаха они в своем разговоре называют фоя, а Мухамеда — Мемети.
В китайской истории под именами хой-ху, хой-хорь, хой-хой известен народ чужеземный, давший династию хой-хор и впоследствии занявший нынешний Восточный Туркестан. В восточных источниках народ этот известен под именем уйгуров. Нынешние жители Семи городов называются китайцами чанту (чалмоносец), буквально — обернутая голова. [Они] говорят наречием тюркского языка, который назван Клапротом уйгурским. Действительно, язык этот, хотя и тюркского корня, но отличен от его известных диалектов. Он имеет в себе много слов монгольских и много таких, которые по однозвучию напоминают тибетский. В грамматических изменениях и в произношении слов много различия. Язык дикокаменных киргиз есть его отрасль.
Уйгуры были мусульмане еще при Чингис-хане, имели тогда еще свое письмо и, как народ более образованный, употреблялись монголами для [ведения] письмоводства. Образцов древнемонгольского письма, известного под именем уйгурского, я не нашел, несмотря на все мои усилия. Китайцы, имея в соседстве уйгуров мусульман, название их обратили в значение мусульманина, но, впрочем, отличают некоторые народы по именам. Всех среднеазиатцев называют анджанцами, османов — хункар, русских — улус, монголов — тойцзы, киргизов — хасаков и дикокаменных киргиз — бурутов ставят в ничто, как презреннейших варваров.
Лошади в Китае большую часть дня стоят на привязи под навесом дома. Они привязываются так, что голова лежит на брусе и держится всегда поднято — это делается для приучения лошади держать [голову] хорошо. В день два раза кормятся мусуем (Linaria). По свидетельству китайских историков, семена этой травы и вся порода были вывезены из Ферганы в царствование дома Хань — около 100 л. до Р. X.
20 августа.
Странное явление. Сегодня купили для обеда черную курицу. Суп от нее вышел черный, и кости птицы покрыты черной пеленой. Иван Ильич рассказывает, что действительно здесь замечено, что черные курицы имеют даже и мясо черное, грубое и невкусное. В Китае продают птиц всегда зарезав и ощипав, потому что раз отощавшая курица в продолжение года не может вполне отжиреть. Свиньи китайские все вообще черны и бывают удивительно жирны. Есть такие скоты, которые волочат сосцы по земле. Китайцы удивляются и не верят, что есть свиньи другого цвета. Мясо этого животного они очень любят. В продаже отличают они кнутовое и тележье мясо. Последнее отменно вкусное и напоминает кабанов.
21 [августа].
На Востоке Китай известен под названием Чин, под испорченным названием первого монархического императорского дома Цинь, царствовавшего 221-206 до Р. X., родоначальником которого был Цинь Ши-хуан-[ди]. Дом Цинь во втором колене погиб от внутренних междоусобий. Сами же китайцы не имеют общего для своей империи названия и называются по династиям, как все другие народы называют по имени сильных родов и владетельных ханов. Впрочем, для отличия от маньчжур они называются Хань. Хань была вторая историческая династия с 206 до Р. X. по 25 г. по Р. X. Основателем ее был деревенский староста Бак-Лю-гао-ди. Хань значит млечный путь, то же, что маньчжурские сунгоры. Одно имя для империи, употреблявшееся всегда, есть Джунго — Срединная и Небесная — Тянь-Сянь. За беспорядочное управление дом Цинь подвергся поношению истории, но, несмотря на это, как основатель прочности империи, родоначальник цинский почтен жертвой. В просторечии для отличия китайцев называют минг — чернь и маньчжуров… знамя. Каждый маньчжур принадлежит знамени.
В историческом повествовании китайцев замечательны разные выражения, характеризующие пустую формальность и рутину. В прагматической истории Ган-Му относительно китайцев и варваров одно и то же слово имеет разное значение. О смерти царствующего государя говорят бын — треснул, подразумевая, что треснула гора для принятия его праха; о князьях китайских говорится дзу — преставился. Об иностранцах и вообще об умерших — сы-ле, что значит относительно человека — умер, скота — издох и пр.
Восточный Туркестан издавна, еще до Р. X., известен китайцам: он состоял из городов, которые имели своего владетеля. К какой породе [относилось] и каким языком говорило это первоначальное население неизвестно. Потом он принадлежал к Согдиане, которой столица была в Туркестане. О Бишбалыке, который китайцы называют Биши-балы, существует толкование, которое принимает слово бали за бель — хребет и потому доказывает, что бишь-бель — пять переездов, означающее пять переходов через горы. О происхождении слова Алты Шаар — Шесть городов — китайцы не говорят ничего положительно. Что за народы, известные у китайцев под именем тюго (дулу), жужань, юечжи? Кара-Хитай восточный есть, по мнению некоторых синологов, дом Кидань, а алтын-ханы китайские — дом Жочжо. Под именем юечжей разумеют они, как уверяет Иван Ильич, гетов, массагетов .
Замечательно, что в китайских источниках до Р. X., говоря о каком-то народе, сказано, что они служили ногаям. Нужно справиться у отца Иакинфа («О народах Средней Азии).
Кстати, об этой книге: она написана бог знает как, идеи и предположения автора идут заодно с подлинными, а что за невежество в гипотезах — противоречие и себе и [чужим] данным. Иван Ильич уверяет, что ошибка главная при составлении состоит, собственно, в программе и в выборе источников. Об этом предмете существует летопись какого-то… Алань, замечательная по последовательности изложения. У консула есть Санангсэцэн в китайском переводе. Не другой ли это список?
22 [августа].
В Китае хлеб белее, нежели у нас, это зависит от того, что они при молотьбе вымачивают [зерно] водой. Действительно, подобный способ приготовления муки дает белизну, но испеченный хлеб скоро черствеет. Во внутренних губерниях присоединяют для белизны кукурузу. Китайцы имеют мельницы, движение жернова производится конской силой — запрягают двух или трех лошаков. Водяные мельницы попадаются нередко, но и устроены так, что оборот жернова соответствует обороту крыла, шести колесным…
Молотят хлеб китайцы несколько иначе: они мнут его каменным цилиндрическим вальком, запрягая [в] него вола или лошадь. Во Внутреннем Китае для молочения снимают только верх колосьев, чтобы не оставались даром зерна. Солому снимают отдельно и употребляют на покрытие крыш, делают циновки, шляпы и пр.
Китай своей площадной жизнью, своей языческой философией и эгоистическим себялюбием и, наконец, дряхлостью и слабостью своих внутренних сил и осторожной уклончивой политикой вне совершенно напоминает древний Рим в период перед его падением. Читаешь историю Китая, и сходство делается еще поразительнее. Варвары теснят Китай. Китай не может противиться и прибегает [к] хитрости, свойственной бессильным, — задабривает дарами, платит им дань и гордо называет ее жалованием, принимает в службу, одних выставляет против других и льстит их тщеславию, награждая достоинством князей, ванов, гунов, как Рим раздавал титул патрициев. Платит еще позорнейшую дань княжен, подобно тому, как византийские императоры выдавали своих княжен за русского Владимира, за варвара — монгола Ногая, брата Берке, и потом, в виде величайшего счастья, — за турецких султанов.
Удивительно то, что держит и крепит Китай: в том смысле, как Рим, он не раз делался добычей инородцев, но он падал только в лице кит[айской] династии, а Китай как государство стояло. Варвары приходили, завоевывали Китай — и сами делались китайцами, так сильно влияние китайской цивилизации. Отчего образованный Рим не мог подчинить своему влиянию варваров? Рим был уже разрушен рано, разрушен христианством, которое не могло вкорениться в римлян, но тем не менее успело уже повергнуть язычество. Римляне были без веры, следовательно, без путеводителя. Не варвары, а христианство разрушило этот железный колосс древнего мира.
В Китае было совершенно другое. Здесь вера играет второстепенное значение. Вера может быть у всякого своя. Вот отчего варварам нельзя было не уважать китайскую цивилизацию, ибо им не было причины их ненавидеть и презирать. Народы, покорявшие Китай, были сами веротерпимы. В Европе германцы, как все новокрещенцы, предались новой вере с жаром, с фанатизмом и, видя развратный и безверный народ римский, глубоко возмущались душой, презирали; все римское и языческое образование, несогласное с духом христианства, должно было непременно пасть. Германцы были сами причиною падения, чтобы со временем быть причиной их возрождения, только в другом виде, в другой одежде, под влиянием другого путеводителя — креста. Если бы Китай был покорен народом мусульманским или христианским, он пал бы, и вся эта всемирная глубокая его образованность или уничтожилась бы без следов или же пошла бы вперед, сделавшись только средством к новому возрождению.
Я заговорился слишком. Обратимся к тому, что именно [я] хотел сказать. Травля животных и бои занимают и китайцев. Императорская охота, описанная Марко Поло, показывает все утончение их. Петушьи бои, травля кошек и проч. ведут за собой огромные пари — это азартная игра. В числе драчунов замечательны сверчки полевые. Кроме драки, они знаменуют счастье, если в первый день нового года встретят своей песней. Так как насекомое это принадлежит к разряду однолетних, то и существуют в Китае особые мастера, которых ремесло состоит в воспитании до нового года сверчка. Путем тяжелого и многолетнего опыта достигнут в Китае способ продолжать жизнь этих насекомых. Микробиология в этом отношении сделала в Китае удивительный шаг. В новый год непременно должен являться придворный воспитатель сверчков, имея за пазухой в особой коробочке из тыквы это насекомое, и заставить петь [его] хвалу императору. Покойный император удивительно любил этих сверчков и всегда при себе имел коробочку со сверчком счастья. Вообще воспитание птиц и зверей находится в Китае на высшей точке развития: есть маленькие породы птичек, вроде воробья, которые, не будучи телом велики, обладают удивительно высоким духом, и одна из них, пущенная в стадо воробьев, причиняет им такой же урон, как знаменитый рыцарь Гуань-лоя один разбивал несметные полчища врагов. Мал золотник, да дорог!
23 [августа].
Сегодня было третье заседание. Шумели и пили чай. Некоторые почтенные мандарины так интересовались делом, что сочли за лучшее дремать. В Китае… свои понятия о вежливости.
У консула есть генеральная карта империи, составленная в Пекине. Отделка ее очень чиста. Главные реки окрашены темно-синей краской, второстепенные, впадающие — зеленой. Горы рисуются в профиле конусами. Две главные реки Китая — Хуанхе и Янцзы-Цзян, называемые китайцами жилами государства, — рельефно выставляются на первом плане. Есть у него также атлас Западного края, т. е. Джунгарии, Тарбагатая и Восточного Туркестана. Территория внешняя ограничивается Балхашом и Иссык-Кулем, который назван Темэрту-нор и Тускуль. Господин Девис (China during the war and since the peace etc…) о китайских картах говорит: «Китай был топографически снят иезуитами на основании тригонометрических начал (?) с такой точностью, что, за исключением английских владений Индии, ни одной части Азии не имеется такой точной съемки, как Срединная Империя».
В Западном крае глава буддийского духовенства есть хамба в значении хутухты. Он живет в… 15 верстах от Кульджи. В Монголии, в Тибете считается до 72 хутухты, по числу учеников Шикья-Муни, которых они и есть преемники, или, лучше в строгом смысле, — возрождение, кубилган. Хутухту значит всесовершенный. Ургинскии хутухту в священной буддийской иерархии есть лицо высокое. Далай-лама в приезд его в Тибет для обучения священным книгам служит вершником. Западный Тибет имеет своего хутухту с титулом — панчжен-эрден. Так как хутухту, подобно далайламе, есть суть возрождение, не нисходящее апостолов буддизма, то избрание его подобно, как и далай-ламы. Китайское правительство сделало это предметом своих политических видов, а чиновники — средством для добывания денег. Правительство для поддержки своей власти старается поставлять в эти места людей более преданных, преимущественно из Кама (страна, лежащая между Тибетом и Китаем), или же ставит людей ничтожных, глупых. Во всяком случае, старается разными средствами, не разбирая их качества, ограничивать их умственное развитие. Эти живые боги бывают окружены женщинами и, предавшись страсти, делаются жертвами ее последствий. Чиновники же при выборе кандидатов успевают от богатых домов набрать поболее вещественных доказательств, а потом решают жребием. Политика Поднебесной империи старается об одном, чтобы дети монгольских ханов не избирались в эти звания, а в случаях противных сильно противится. Вообще, старанием и родительским попечением Сына неба тибетский далай-лама [и] хутухты недолговечны, между тем как их собрат панчжэн-эрден, страна которого подчинена Империи только номинально, живет уже 80 лет. Власть Китая в Тибете только наружна. У нас у бурятов есть хамбу и ламы и своя консистория. Они тоже хотели иметь хутухту, но им отсоветовали.
Откуда происходит слово урга, название ставок монгольских князьков? Местопребывание хутухты носит это нарицательное имя, как имя собственное, неделимое. Маньчжуры его называют курень, от чего происходит и китайское кулюнь. В Китайской истории то, что известно у восточных историков и называется теперь кочевниками ордой, — ханская ставка. В тесном смысле его юрта называется тинь-чжан, становище.
25 [августа].
Вчера я ездил за город: нет возможности дышать городским воздухом китайских городов. Кроме пыли, решительно нечем питать себя. Для прогулки я, по совету консула, избрал шалаш рыбака, в 15 верстах от города, на берегу Или. Ехали мы по береговым песчаным дюнам, внизу расстилался зеленый роскошный ковер илийских лугов. На дороге встретили двух китайцев — охотников. Браконьеры имели длинные и тонкие фитильные ружья с маленьким, загнутым вниз прикладом, и двух гусей и одного фазана в тороках, как трофеи езды […]. Один из них предложил купить ружья и запросил около 150 рублей на наши деньги, уверяя, что он [много] не запрашивает. Другой хотел, для меня только, продать пороховницу, грубо сделанную из верблюжьей кожи, и просил 6 рублей серебром. За ружья я дал 15 ланов ярмаками, а [за] пороховницу — 1 лан. Китайцы странно завертели головами, испустив звук отрицания «э!», и уехали.
Мой товарищ по экскурсии, консульский секретарь, несколько раз подкрадывался с ружьем и всякий раз выстреливал бог знает куда. Наконец вступили на берег Или в луга. Что за свежесть сравнительно с голыми песками, на которых стоит город и по которым мы ехали. В песках нет ни капли растительности, кроме голых и тощих кустов юзгеня, какого-то колючего растения, вроде чертополоха, стебель которого китайцы употребляют как лекарство. А тут, в лугах, только что спустились на иловато-влажный грунт, как буквально утонули в высокой траве. Камыши, в которых, по уверению Б., [укрываются] тысячи фазанов, осока, молочай, что-то вроде астры, высоко росли, доходя до колен всадника. Солодка, мальва, китайская конопля, мелкий кипец покрывали землю так густо, как борода кашгарского муллы. На этих-то пажитях паслись маньчжурские стада, между тем как конюхи лежали под тенью огромного вяза. Наконец [мы] добрались до хижины мужика. С. распорядился устроить бивак в живой беседке развесистых джигдовника и ильма. Хижины китайских рыбаков столько разнятся от хижин русских рыбаков, как узкоглазая его физиономия с несколькими клочками волос на бороде от косматой и огромной головы русского мужика. Хижина была выбита из сырого кирпича с крышей, перед ней был устроен неизбежный навес. Над дверями и около навеса висели камышовые шторы. Множество корзин, больших и малых, разнофигурных валялись всюду. Жалкая таратайка с двумя огромными колесами довершала картину. Так [как] мужика не было в хижине, мы имели в виду застать его на реке [и] отправились далее. Вдруг встречаем на берегу еще хижину, которой не было прежде, как говорит К[алиновский]. Перед шалашом бегал жирный мальчуган с торчащими рожками волос на двух висках. Чтобы узнать о рыбаках и, главное, чтобы посмотреть на хозяйку, мы завернули в шалаш. Около дверей, спиной к нам, сидела китаянка и по движению локтей очевидно было, что она чем-то занималась. Она не обратила никакого внимания на наш приход, не удостоила ответом С., который осведомился, где рыбаки, и продолжала свое дело с невозмутимым хладнокровием, как будто бы никого не было. С. повторил свой вопрос и прибавил, кажется, какое-то нравоучение, что неприлично-де так встречать гостей. Китаянка вдруг обратилась к нам, странно замахала руками и начала что-то кричать, употребляя с особенным ударением слова «мамаде пфи»! Мы были так озадачены этой выходкой рыбачки, что, говоря по-восточному, положили все упование на аллаха и терпеливо стали дожидаться, когда стихнет буря. Рыбачка была недурна собой и, главное, имела такие крошечные ножки, что обуянное гневом ее тело чуть-чуть держалось на этих слабых поддержках. Я не мог удержаться от смеха, когда китаянка влезла опять в свою берлогу и продолжала ворчать […]. Мы решительно ничего не понимали, хотя по слову «мамаде пфи», значение которого мы с первого дня [знакомства] нашего с китайцами хорошо постигнули и знали, что она бранит нас, но за что? — этого не могли себе представить при усиленном желании. Между [тем] китаянка, довольная нашим смирением или довольная своей храбростью, что порядком сожгла всех прадедов русских, вышла из шалаша и стала обозревать вокруг, не едет ли муж. Я счел нужным воспользоваться минутой и представить, сколь несообразно женщине, особенно женщине образованнейшего в мире государства, каков Срединный цветок, употреблять такое гадкое слово, как проклятый «мамаде пфи», которого добрую дюжину она заставила нас съесть. Имея в распоряжении своем китайское слово «нюйжень» — женщина и «хао» — хорошо и «бу-хао» — худо, я решил расположить их так искусно, чтобы она при помощи моих объяснительных жестов и умильного выражения лица живо бы постигнула мою мысль. Принявши гордый вид оскорбленного человека, я начал: «Нюйжень — хао…», — и, помолчав немного, прибавил, — «нюйжень — тррр… бу хау». Этим я хотел сказать: «Женщина — хорошая штучка, но браниться», — это — за неимением слов [я] выразил очень удачно звукоподражанием — «нехорошо». Не знаю, от обезоруживающего действия моих слов или от другой причины, она разразилась таким звонким и веселым смехом, и лицо ее осветилось так приятно, что я вдруг почувствовал к ней особенное влечение и особенно меня смущали раскинутые бедра и удивительная округлость форм нижних частей тела, должно быть, удивительно нежных и мягких. В припадке нежности я совершенно забыл ее прошедшее поведение и подъехал к ней близко, чтобы пустить комплимент в китайском вкусе и окончательно задобрить ее в свою пользу. На этот раз словарь мой истощился, и я довольствовался словом «хао», разумеется, произнося его очень умильно и несчетное множество раз. Мне было досадно, что «хао», как ни верти, все остается глупым «хао», мне хотелось как-нибудь хитро и замысловато, но вместе [с тем] сильно и убедительно доказать ей свое расположение и намекнуть, как говорят у китайцев, насчет весенних мыслей […].
Побужденный ее молчанием и сильным приливом весенних мыслей, я решился без дальних околичностей приступить прямо к делу и начал объяснять жестами, что-де мне хочется посмотреть, какие у тебя ноги […] Она, очевидно, решительно ничего не понимала и только улыбалась. Я уже было поднял руку, чтобы открыть занавес, […] как явился рыбак и разрушил все мои благие намерения, — я, признаюсь, немного опасался, чтобы муж не вздумал «пить уксус» и заблаговременно уселся на коня. Китаянка вошла в шалаш и со своей подругой, которая прежде не показывалась, начала хохотать, бог знает зачем.
Муж тоже утешился, получив за проданную рыбу несколько мыскалов серебра, и был вежлив до того, что принес несколько извинений, если жена его не умела как нас принять. «Баба, — говорил он, — дрянь, а петух (так называл он себя) — другое дело и знает свет».
Так мы простились с рыбаком и его женой, которая приняла нас черт знает как и в конце обнаружила отменную доброту сердца.
Житель Старой Кульджи татарин Ш. уверил нас, что все дочери Поднебесного царства кажутся недоступными, но в сущности суть скромные «разрушительницы городов».
Возвратившись в беседку, мы напились с неизъяснимым наслаждением чаю. Действительно, прекрасные места — берега Или: густая джида, ильм, ива образуют над вами свод; барбарис, джингиль и дикие розы переплетаются вместе. Красные кисти ягод красиво висят, переплетенные белым пухом какого-то вьюна. Розы были тут трех пород — с круглыми, красными, черными ягодками, с большими… и проч. Устроив загородное гуляние и порядком учинив ристалище, мы к вечеру возвратились домой, будучи чрезвычайно довольны происшествиями дня.
Китайского императора подданные китайцы называют Хуань-ди, или Сыном неба — Тхянь-дцуй. Мусульмане же и киргизы — иджен-ханом, заимствуя это слово от монгольского бодо-иджан. Знаменитый восточный фагфур происходит от слова фарфор.
* * *
К какому племени принадлежал народ, составлявший первоначальное население Восточного Туркестана и упоминаемый китайскими историками задолго до Р. X.? Города Уш, Аксу, Куча, Урумцы (Пулэй), Пичан (Хуху), Хотан (Юйтянь), Яркенд (Согюй), Кашгар (Сулэ) и проч. имели своих государей и составляли каждый отдельное государство. Известно из китайских же данных, что исповедовали они религию Будды, так что многие китайцы ездили в Хотан для изучения догматов и философии Шикья-Муни. Не знаю, в какой степени справедливо мнение некоторых ученых, что основателями этих городов были индейцы и что Хотан есть испорченное санскритское слово Куса-Тана. т. е. пупок земли. Предположение подобное имеет некоторое вероятие. Тибет, будучи в соседстве, мог иметь сношение с Турином и передать ему веру Будды. По лицу же своему туркестанцы напоминают тип индо-персидский и очень походят на среднеазийских таджиков (народ персидского корня и говорит этим языком), которые считают себя аборигенами страны еще до прихода тюрок. Бронзовый или же кофейно-черный цвет кожи, углубленные глаза, прямой крючкообразный нос и худощавое сложение делают их совершенно отличными от народов тюркских или монгольских. Если уйгуры, занявшие эту страну в XI веке, были монголы, то каким образом могли так измениться физически, тогда как монголы Джучиевой орды и узбеки сохранили свой монгольский тип в Мавераннагре. Еще замечательно то, что во всем Восточном Туркестане говорят тюркским языком и таджиков как отдельного сословия между ними нет. «Ум становится коротким в рассуждении этой материи».
Знаменитая буддийская энциклопедия, известная под названием Гучжуро-дачжуро, состоит из 520 томов, из числа которых 20 составляют алфавитный указатель. Во всех монастырях имеется эта громада книг и при перекочевывании в м[онгольских] аймаках 52 верблюда посвящаются только перевозке Гуджуры Джуры. В ней заключаются все обряды, догматы веры, философия, история, грамматика. Говорят, что в нее входит и санскритский словарь; какой-[то] китайский император подарил одно богатое издание этой книги российской миссии, и часть ее уже перевезена в Россию.
30 августа.
Вчера у нас происходило тоже […] нечто вроде торжества. Мы праздновали именины нашего консула. Мы были очень рады, что скучно однообразная жизнь разнообразилась этим случаем. Китайский фейерверк «стораз», фонтан и другие были пущены для потехи. Фейерверки китайские очень милы и стоят какие-то пустяки. Весь вечер пускали то фонтаны, то что-то вроде наших конгревов и всего было только на 5 руб. серебром.
3 сентября.
Сегодня у китайцев тоже какое-то торжество. Страшный звук пуреня (рог из морской раковины) и гром пушек целый день раздаются с крепости. Фейерверки, «потешные огни», светят и трещат днем: для китайца все равно, что день, то и ночь для фейерверков. Фу Шан-лун, знакомый мне купец, принес мне пирог благополучия с таинственным клеймом. Я из вежливости хотя и пробовал эту китайскую сладость, но увы! Не мог проглотить и первого куска: так сильно пахнет и отзывает свиным салом.
4 сентября.
Сегодня на лугу китайцы производят военную экзертицию. В палатке сидят колдаи и курят свои джен-даи, между тем как оборванные маньчжуры с луками и одним выпуском стрел в колчане немилосердно вонзают [их] в циклопическую мишень. Впрочем, надо признаться, из лука китайцы стреляют хорошо и редко дают промах, зато пушки им не даются. Кстати, о колдаях. Колдаями здесь называют штаб-офицеров. В Китае же, как говорил наш консул, о колдаях знают только ученые. Колдай — монгольское слово, при династии Юань оно употреблялось в Китае. В русских летописях упоминается колдай. В Иле так называют в просторечии, но официально каждый чиновник носит название по чину или должности. Генералы называются анбань или дажень. Анбань название маньчжурское, а да-жень — китайское и буквально значит: большой человек, вроде русского вельможи. Все китайцы зовутся по чинам, а обер-офицеры — лоями, штаб-офицеры и генералы — даженами, для отличия прибавляют начальный звук имени. Имена таким образом называются: Ту-дажен, Ка-дажен, Са-голдай, Ка-голдай, Бу-голдай и пр.
В Китае вместо русского «ура» существует крик привилегированный: «хуан-ди» — это «десять тысяч лет», «вансуй», т. е. «здравствуй на многие лета». Иногда государя называют просто Ван суй-э — господин десять тысяч лет. Для наследника престола такое название десять тысяч осеней — Цянь-суй; Ван-суй, Жан-суй, Вань нянь-суй! — вот народное приветствие императору. Нянь-суй есть год гражданский, просто суй — годы жизни каждого индивидуума отдельно.
В Китае нет многого, что есть у нас, и есть много того, что следовало бы перенять нам. Трудолюбие, народная гордость, прямолинейность — суть вещи, зависящие от обстоятельств и характера народа; по постановлениям китайским, например, после каждой династии учреждается комитет для составления ее истории, заимствуя все из официальных источников. Государственный стряпчий есть лицо, которое заменяет все, и суд уголовный, где судится преступник до тех пор, пока сам не изъявит согласия на справедливость приговора. У нас с идеей китайского богдыхана связана мысль, что это — азиат-деспот, властный над головами всех своих подданных и, выражаясь, как Ходжи-Баба, злейший враг всех людских пят. Ничуть не бывало. Он ограничен в своем управлении. Он не имеет своего имущества или, как у нас, уделов. У тебя все есть, говорит народ, что нужно — все достанем, к твоим услугам 10 000 вещей, зачем же тебе имущество, когда ты обеспечен вполне. Ты не торгаш, чтобы заниматься своим имуществом и пускаться в обороты, ты должен думать о подданных, которые составляют для [тебя] имущество, а не о своем добре. Да, посмотрите, вникните в китайскую систему поземельной собственности: она основана на идеях, до которых Европа дошла только в наш просвещенный век.
6 [сентября].
Ездил в сады, Кульджа стоит, как известно, на реке Или; не знаю, известно ли, что она стоит при впадении в Или речки Сарыбулак (Ша-хе-цза) и более растянута по течению последней. На четыре версты растянут собственно город и на столько же в ширину, до половины песчаных и скалистых холмов. Дома в Кульдже биты из глины, хотя в «Записках Географического общества» один татарин уверяет, что дома деревянные, каждый дом составляет нечто отдельное и тоже загорожен стеной. Деревянных домов никогда не было, и во всем Китае не знают о возможности подобных строений, кроме бамбуковых шалашей. Крыши на домах большей частью из камыша или соломы и вымазаны глиной, только один главный храм покрыт зеленой черепицей. По всем нашим справкам, тесовых крыш в Срединном царстве не существовало со времен достоверной династии Хо-и-Шунь, почему заподозреваем правоверного рассказчика в нарушении заповеди последнего пророка, который обещал таковых повесить за язык. Конечно, распространять географические сведения — дело полезное и благое, никто против этого не спорит, но желательно бы, чтобы распространяли сведения, а не рассказывали бы басни.
В последнее время благодаря неусыпной полезной деятельности Географического общества сведения наши об Азии распространялись быстро и широко, но, вместе с тем, по естественному ходу вещей вкралось и несколько сомнительных повествований о том, чего нет и чего, может быть, машаллах! господа, и не будет. Ничего нет удивительного, если необразованный татарин мог насказать чудеса — ему можно извинить: он так понимал сам или ему говорили так, или же увлечение азиатской, как всеобщей восточной, слабостью преувеличить и представить вещь в более лучшем или худшем виде, нежели она есть. Машаллах! Он тоже некто и знает свет. Конец концов, что он за собака, чтобы при случае не примениться к образцовым сказаниям сахароустого попугая и не сказать нечто чудное. Я знаю многих почтеннейших мусульман, людей солидных и достойных доверия. Побывав в Питере или Москве, он является к своим родовичам с полным запасом разных удивительно затейливых повестей из запаса слышанного и виденного. Когда он начинает свой рассказ, вы видите ясно по его ухмыляющемуся и довольному лицу, что он просит от вас похвалы и жаждает извлечь крики удивления вроде: Барак-аллау Аформай, Дари-гай? мардас и проч. Что может занять кочевника или азиатца, воспитанного на фантастических сказках о Сулеймане, владетеле волшебного кольца; о Сейфуль Малике, царевиче багдадском, который был на острове Пери (добрых духов), видел амазонок, у которых мужья имеют собачьи головы, в которых была влюблена царица обезьян, и что может занять татарина, который верит во все печатное, как священные страницы несомненной книги. Всякого бывалого человека они засыпают вопросами, вроде следующих: «Хаджи, вы были в Мекке, проходили по многим землям. Ну что, как приняла вас царица обезьян и видели ли фараона, который обратился в рыбу и всякому путешественнику, высунув голову из вод Черного моря, кричит: «Фергаун!» Конец концов, нет сомнения, порядком вы отдули Язида в Чуле Кербальской (да будет над ним проклятие). Правда, что он за убиение Хасана и Хусейна обратился в рыжую собаку с черными пятнами над глазами». Нечего говорить, что ответить на это отрицанием — значит подвергнуть сомнению свой авторитет. А потому всякий татарин, киргиз, принимая во внимание мудрую поговорку: «Приноравливайся к духу народа и под его дудку, как иноходец, беги», – начинает повторять старую и выдумывать новую ложь. Восклицание «бара-келде, бале» слышится всюду, а чувствительные дамы за своими перегородками расчувствуются до того, что начинают хныкать, узнав, что собаки-ваххабиты хотели похитить священный прах пророка и вместо него (не мои уста это говорят, а слова ваххабитов, да проклянет их аллах!) положить собаку для посрамления всех правоверных.
Послушайте рассказы наших киргиз, бывших в Петербурге и Москве. Вы услышите от них такие чудеса, о существовании которых вы бы, живя десять тысяч лет в Петербурге, не узнали. Следовательно, погрешности рассказа, напечатанного в «Записках общества», т. IX, простительны.
Да и очевидно, что рассказчик человек простой, доверчивый и, главное, близорукий (я говорю в буквальном смысле). Результат его доверчивости — это известие, что анбань, китайский чиновник, имеет белую шишку. Почтеннейший Абдурахман, как водилось прежде, до учреждения фактории попал в майтузу — грязный приют разных торгашей некитайского происхождения. Непосредственный начальник их, чиновник во втором чине, имеющий белый шарик, для вселения своей особе более сильного уважения хвастнул им, что он анбань, генерал. Простой и доверчивый поверил этому, как достоверному факту, и передал собирателю. Он близорук — это ясно: черепица очень походит на тес, глиняные стены делаются с нарезами, как бревна, и синий прозрачный шарик коголдая (только не колохая) [от] отсвечивания желтой соломенной шляпы кажется желтым. Ведь грехи эти неумышленны. Но бывают грехи другого рода, особенно когда [вы] доверяетесь авторитету азиатца. По свойственной ему подозрительности, он начинает думать: для чего это нужно кафиру, не думает [ли] он что-нибудь во вред делу ислама, не хочет ли воспользоваться моими словами, чтобы из нас, мусульман, сделать нечто менее собаки? Согласно этой arriere penseé он говорит вам факт, диаметрально противоположный истине, и, возвратившись домой, рассказывает, что против китайца кафиры ужасно грубы. А поэтому желательно было бы, чтобы господа собиратели обращали более внимания на источники и старались бы о их точности, а потом бы уже печатали то, что вероятно.
В Кульдже в ведении полиции насчитывают до 70 000 жителей, а о поселенцах, которые живут около города, нет возможности собрать [сведений]. Неудивительно, что в Кульдже могил столько же, сколько и домов, если не больше. Гарнизона в городе считается до 8000.
8 сентября. Китайцы, продавая нам свои безделушки, уверяют, что все это употребляется самим богдыханом, лучший сорт. Досадно: они воображают, что мы варвары и, следовательно, уважения к государю не можем иметь, как они. Продает ли он чашечку, уже не преминет обязать советом поднести это хану русскому.
10 сентября. Сегодня предприняли для рассеяния небольшую экскурсию в китайские сады, или загородные дачи. Надобно знать, [что] город Кульджа более лежит по Сарыбулаку, нежели по Или. По сю сторону реки идут сады на пространстве в длину верст на 10, на столько и с той стороны. Мы ехали по берегу этой речки. Начиная от угла крепости, который упирается в дельту, образованную впадением реки в Или, вплоть до самых дальних садов, весь берег реки по обеим сторонам буквально усыпан могилами, такими же частыми и мелкими, как оспа. Надо знать величину китайских могил, чтобы вполне понять эту бесчисленность. Китайцы после смерти зарывают [труп в] землю в особенно уродливом гробе, окрашенном большей частью в красный цвет, вырыв нечто вроде земляных очагов. Над этой ямой насыпают землю в виде конуса. Конус этот в окружности не более четырех аршин и в вышину аршина полтора. Так как здесь грунт земли песчаный, даже песочный, то неудивительно, что эта маленькая насыпь сносится ветром и обнаженный гроб торчит из земли до тех пор, пока весенним снегом не размоется берег и обрушится в воду, снося с собой и гроб.
Вода в Сарыбулаке весной бывает глубока и быстра, почему покойник против воли оставляет отчизну и совершает посмертное водяное путешествие по Или в Балхаш. Когда мы приехали в Кульджу, от разлива реки берег обрушивался очень сильно и несколько костей торчали в яру. Теперь уже большая часть покойников отправилась в экспедицию на Балхаш, а часть их до сих пор висит на обрыве. Нет места, где бы не было могилы — под мостом, на дороге, на улицах — везде виднеются ходы. Из этого не следует, что у китайцев не было кладбищ, их много и даже очень много, но все они заняты, и каждая фамилия желает иметь свое отдельное помещение. Я не знаю, оттого ли, что в Кульдже много народонаселения или нездоров климат, но полагаю, что едва ли есть в России или в Европе город, где было бы столько могил. Обыкновенная форма могил, как я уже заметил, конусообразная насыпь; на некоторых поставлены каменные плиты, вроде тех, которые встречаются в киргизской степи на так называемых «калмыцких могилах». Однако, есть и в Кульдже один памятник, монумент, поставленный какому-то купцу. Он имеет вид четырехгранной призмы и состоит из четырех ярусов на кубическом пьедестале. В первом ярусе (нижнем) есть ниша, обращенная к северу, на втором ярусе ниша смотрит на восток, в третьем — на запад и на четвертом — на юг. Вот, собственно, могильный памятник в Кульдже. Киргизы рассказывают, что китайцы после смерти каждого смотрят на стечение планет и приговаривают: похоронить ли, бросить ли в воду или на съедение собак. К[алиновский] говорит, что это имеет некоторое основание относительно детей. В Китае, как говорили прежде, есть ужасное обыкновение детоубийства — это совершенная ложь. Есть обыкновение, проистекающее из религиозных начал буддизма о метам- психозе души. Когда умирает дитя, то, чтобы оно не переродилось или не возобновилось в том же семействе, стараются его проводить из дома с видимым пренебрежением — бросают на дорогу, в яму или как-нибудь, чтоб дух покойника оскорбился. Правительство же, напротив, ежедневно посылает от полиции телегу для сбора умерших детей, чтобы их предать земле. При нас случился пример: у табунщика калмыка в майтузе умер сын, мальчик лет семи. Отец, привязав к ноге его веревку, приволок и бросил [его] под яр на песок, так что наши торговцы татары должны были засыпать песком, чтобы не видеть разложения.
На правом берегу устроены в садах огороды, и шампани занимаются их возделыванием. Шампанями здесь называются преступники, оклейменные за убийство и за другие важные преступления и отосланные в ссылку. В Западный край ссылают из южных губерний Китая. Надо сказать правду, что эти преступники суть лучшие работники в Кульдже. Трудолюбие их превосходит границы. Они все загнаны в разные рудники и заводы, но, благодаря снисходительности местного начальства, которое, получив небольшую сумму денег, отпускает их даже на свободу, пользуясь их жалованием и отпускаемым на них провиантом. Все каменщики, плотники, слесари — из них. Маньчжуры же занимаются одним ремеслом, более спокойным — воруют.
На огородах были посеяны: кунжут, из которого добывают масло, махровый мак для приготовления опиума, китайский картофель «шань-по», капуста, редиска, свекла, морковь, огурцы, арбузы и дыни, лук, стручковый перец, бобы и сорангу. Беспрестанно попадались загородные хутора, и всюду работали китайцы.
Китаец трудолюбив до невероятия. В жарчайший день он ходит на полях своих в одном исподнем платье и плоской, как блин, с широчайшими полями шляпе. Ничто из произведений природы не пропадает даром. Один китаец сидел и очищал коноплю. Она родится здесь дико и высоты достигает выше роста всадника. Он очищал кору для веревок, а стебли готовил для продажи на покрышку крыш. Другой собрал колючую траву, растущую тут на песках, и жег ее в хитроустроенной печи. Он уверял, что зола эта имеет целебное свойство и что фунт ее он продает за 1 лан и 6 цянь серебра (1 р. 60 коп. сер. на наши деньги). Огромные пространства земли были засеяны гаоляном (тюрк. джугара), сорго, кукурузой, маком и мусуем (Linaria). Джугара служит им для выгона водки и употребляется как хлебное зерно. Сорго имеет такое же применение. Не могу судить о значении сорго, как материала для сахара, но что же касается до мнения господина Калиновского, что листья дают отличное сено, то против этого смело говорю — нет.
Мусуй сеется в год раз, но скашивается три раза.
Мы ехали все по арыкам, канавам. Загородные сады, или дачи китайцев, очень красивы и приятны на вид. Я был в одной из них; хозяин давно не жил в ней, две женщины и один старик китаец, должно быть, управитель, расположились в ней. Прекрасные тополи составляли стройные аллеи. Прекрасный дом с резными окнами, карнизами лепной работы, с так называемыми зверями, волчьим зубом и проч., был очень красив. К счастью, нерадение владельца привело его в ужасное состояние. По комнатам бродили петухи и курицы, все карнизы были обсажены гнездами голубей и изгажены этими же птицами. Стены были исписаны картинами исторического и мифологического содержания.
Китаянки приняли нас очень радушно и дозволили осмотреть весь дом. На дворе перед галереей были посажены туя восточная (Thuya orientalis), граб, махровые мальвы и розы. На галерее висели в клетках жаворонки (пиренейские жаворонки), называемые по-китайски бай-лин. Вообще в этот день китайцы приняли [нас] очень радушно, даже женщины. В одной хижине убогой сидели две девушки, одна — совершенный тип калмыцкой красоты, […] лунолицая в буквальном смысле, другая имела замечательно правильный и прямой нос, хотя глаза были несколько узковаты. Зная на опыте, после столкновения с рыбачкой, в некотором смысле нравы прекрасного пола в Поднебесной империи, я счел благоразумным держаться [на] почтительной дистанции от них и стал объезжать. Товарищ мой С. [из] консульства направился прямо на шалаш и стал вести какие-то переговоры. Услышав хохот китаянок, я ободрился и стал тихо приближаться, чтобы узнать степень благорасположения китаянок. Чрезвычайная любезность жирной китаянки к моему товарищу, оказанная взаимным курением одной трубки, совершенно меня успокоила, и я, нимало не думая, предложил свою трубку молодой китаянке, что имела правильный нос. К несчастью, моя дама была не такого приятного нрава и обхождения, как лунолицая: она все носилась и бормотала беспрестанно одно какое-то слово. Я понял, что она бранит, и отложил всякое попечение, и спокойно стал курить трубку, и смотреть на китайскую девку с жирным лицом. Надо сказать, что я здесь, в Китае, благодаря узким и черным глазам, умеренному, несколько плосковатому носу, полученным в наследство от калмыцких дедов, прослыл правоверным. Меня не иначе называли, как хорошенький лоя, и уверяли, что я человек китайского сорта «хитаньянзы». Должно быть, жирная китаянка нашла тоже меня недурным, ибо выказала ко мне чрезвычайное внимание, подавши трубку. Так как я сам не чувствовал к ее плоскому носу никакого расположения и давно уже страдаю за свой плоский нос и не могу его как-нибудь поднять в середине шишкой, то и не обратил на нее внимания и стал собираться в дорогу.
На берегу мы попили чаю, сделали небольшой кейф, смотря на стадо баранов и на стадо гусей, которые паслись вместе. Возвратились мы домой через город, [ехали] мимо старой храмины с медным резным оконцем, изображающим какой-то знак китайского букваря. В дверях пагоды стояли два каменных болвана, образцовые по уродству рож. Нам так наскучили китайские уродливые божки, что мы выбранили фоев вслух: «олмын хером — луи шидло». Нам хотелось видеть каменный мост, но, к несчастью, он успел уже разрушиться. Громада камней напоминала о его существовании. В эту езду мы встретили поезд знатного китайца. Почтенный старик с белой острой бородой важно ехал на пегом коне. Красный шарик и павлинье перо свидетельствовали о его высоком генеральском чине и военном звании. Сзади ехали два штаб-офицера — один за другим. Генерал и его адъютанты одеты были очень опрятно и хорошо. Прибор на конях был шелковый с серебряными бляхами, и под шеей болтались красные и синие буйволовые хвосты, вроде колокольцев. Дин-ма — вершник, увидев нас, страшно замахал руками, предлагая не пересекать дорогу. Наслышавшись о китайских бамбуках, я было поворотил коня, как старожилы убедили ехать смело, говоря, что это ничего. Генерал не пошевельнул даже головой и, как человек отличного воспитания, сохранил удивительное спокойствие. Зато челядь, его сопровождавшая по два на одном коне, зашумела приветствиями — хау, улус, хау!
12 [сентября].
Фу Чан-лун, знакомый наш купец, пригласил в свой хуардан. 12 числа мы получили извещение, что он, Фу Чан-лун, жаждет нас видеть. По здешнему обыкновению, мы тотчас устроили цепь и отправились в город, имея урядника впереди в качестве вершника. Ехали мы в хуардан по той же самой дороге, как в первый раз, и без особенных приключений, кроме встречи с одним стариком, который [был], очевидно, не в своем уме. Лохань лет 50 с почтенной белой бородой, увидев нас, поднял пальцы и, считая но ним монгольский счет никен …[один] и табын 5 (нас было 5), начал показывать рукою такие штуки, что мы пришли [в] удивление и стали спрашивать что ему нужно.
Старик [был], должно быть, большой любитель разнообразия и новизны. Ему очень нравятся русские белые лица, почему он и предлагал нам вступить с ним в некоторого рода отношения, за что обещал щедро наградить. Мы, конечно, узнав дело, расхохотались и поехали своей дорогой, оставив старику полную волю считать прохожих.
На этот раз мы были очень счастливы — хорошенькие дети бегали по улицам и простодушно изъявляли свои мнения насчет нас. Мы имели редкое счастье нравиться этим наивным существам. «Русские мальчики едут», — говорила одна; другая, держа в руках крошечную сестру, спрашивала меня: «Русский лоя, есть у тебя такой брат?» Вообще и простой народ обращал на меня более внимания, благодаря чудному блеску эполет; они от удивления щелкали языком и громко ободряли меня словом «хау-лоя!». Чтобы не уронить приобретенного в Срединном царстве мнения, я принял марсовский вид, подбоченился в виде ферта и представлял из себя такого, выражаясь по-персидски, руфияна, что, машаллах! Сам Гуань-лоя, китайский рыцарь, был бы в сравнении с нами ничто. В таком порядке [мы] въехали в ворота хуардана. Чжан Гу-да, хозяин, одетый по-праздничному, встретил нас у дверей и ввел в свою комнату. После разных взаимных приветствий, удостоверившись надлежащим образом о состоянии наших желудков, мы уселись на нарах, где уже стоял низкий стол, уставленный плодами и китайскими орехами лу-чи и жужубом.
Ободранный малый начал набивать трубки и, закурив на огне, поднес каждому с поклоном. Согласно китайскому церемониалу, мы всунули друг другу трубки и начали курить. Между тем помянутый малый снял с очага медный кувшин с чаем и налил нам в чашки. К чаю же принесли арбуз. Пока мы пили чай и кушали плоды, Чжан Гу-да вступал в таинственное совещание с секретарем. Мы с любопытством ожидали результатов этих переговоров: дело объяснилось скоро. Чжан Гу-де хочется нас угостить как следует; ему хочется, чтобы сердца наши были бы веселы, словом, ему хочется, как делается у образованных людей (у китайцев), чтобы присутствовала при нашей трапезе одна из «разрушительниц городов». Это необходимо было для того, как уверял он, чтобы у нас было более аппетита и более расположения к приятным разговорам. Принимая в уважение первое — обычай страны, второе — желание хозяина, третье — желание самих нас познакомиться с срединными камелиями, мы решили, что Чжан Гу-да должен исполнять все, что ему хочется и что требует обычай Срединного цветка. Хозяин наш был очень рад, видя такую неожиданную им беспредрассудность. Он сказал несколько слов, как оборванцы забегали взад-вперед и исчезли в дверях. Прошло несколько минут, как послышался звонкий хохот и приятный голос, несомненно долженствовавший принадлежать прекрасному полу. По мере того, как хохот и голос стали приближаться, Чжан Гу-да стал все значительнее подмигивать и улыбаться.
Наконец, шепнув нам таинственно: «Идет», — бросился за дверь и явился уже в сопровождении китайской «разрушительницы сердец». Чжан Гу-да, хотя казался ужасным медведем, но в обращении с нюйжень показал себя истинным «ши-ю» — франтом. Он говорил с ней не иначе как с улыбкой, глаза у него в это время как-то странно щурились, и голос делался слишком певучим. Сердцепохитительница приветствовала нас поклоном, присев на одно колено, и подошедши к нарам, стала вопросительно озираться, делая, по-видимому из вежливости, мину, что она конфузится. Чжан Гу-да, согнувшись в дугу, подскочил к ней и, указывая на нашу средину, сказал тихо: «Цоха идень». Чаого (яблочко) — имя нашей дамы — взобралась на нары, изгибаясь станом и ковыляя крошечными ножками. Достигнув назначенного места, [она] уселась очень широко, поджав ноги, среди нас и начала отправлять с удивительным искусством свою должность. Сказав каждому из нас «хауле!» и какую-то любезность, которую мы не поняли, она разлила из чайника в крошечные чашки вино и поднесла прямо к нашему рту. Мы с ней разделили вино. После нескольких глотков вина оказалась наша собеседница дамой очень любезной и веселого нрава. С совершенным отсутствием несносной застенчивости она стала осматривать все статьи нашего костюма, заглядывая из любознательности во все тонкости его. Так как мы были совершенные немцы в китайском языке, то и объяснения наши ограничились разными выразительными жестами, что доставило нашей даме немало удовольствия. Она чрезвычайно мило забавлялась нашим невежеством, шныряла во все наши прорехи и хохотала. Ночной красавице, по-видимому, было лет 20, несмотря на молодость лет, физиономия ее была очень бледна или, как говорят, поношена. Она имела довольно приятное лицо и, по китайскому вкусу, была очень хороша. Густые черные волосы были убраны назад и там ниспадали до пят роскошной и массивной косой. На голове были искусственные цветы, над которыми порхали бабочки и разные уродливые чучки. Губы ее были намазаны густо помадой и краснели, как коралл. Узенькими глазками она управляла мастерски, то поднимая их к небу, то опуская на концы своих копыт, которые, надо сказать, всегда были на виду. Единственный порок ее состоял в том, что она очень часто прибегала к платку и как-то особенно возилась с носом.
Это обстоятельство заставило меня быть осторожным при оказании ей внимания — пить вино из одной чашки. На ней сверху надета была вышитая куртка без рукавов и воротника и застегивалась на середине груди. На пуговицах этой куртки висели мешочки, какой-то талисман и еще какие-то металлические привески, вроде зубочисток, иголок и пр. Под курткой выставлялся длинный и широкий кафтан с широкими, но короткими рукавами. Полы и рукава были убраны лентой и пестрой тесьмой. Под кафтаном была шелковая рубашка, совершенно похожая покроем на верхний халат. Надо сказать, что вообще она одета была очень недурно и опрятно, да и станом напоминала, как говорят китайцы, рисовый колос.
Особенно у ней были хороши ручки, удивительно миниатюрные и стройные. Она сама, по-видимому, хорошо понимала это и занималась ими. Ногти были у ней непомерной длины и тщательно выкрашены в розовый цвет, на мизинце и еще на одном пальце левой руки были золоченые длинные ногти. На двух пальцах были золотые кольца, на руках — браслеты, на правой еще была наверчена коралловая нить. Уши были украшены сердоликовыми серьгами, формой вроде русского калача.
К довершению всего костюма и привесок надо сказать о мушках, симметрично налепленных на правый и левый виски. Это делается для уменьшения головной боли.
Сколько нам ни случалось видеть здесь женщин, но ручки и ноги от природы у них очень малы и красивы. Выпив несколько чашек вина, красавица вытянула из рукавов маленькую дамскую трубку и начала пускать из трех отверстий рта и носа с артистическим искусством разные фигуры дыма и сделалась еще более развязною. Она уверяла нас, что мы все красавцы, и я опять имел счастье через протеже моих узких глаз и черных волос сделаться предметом особенного попечения китаянки. Она, подсев ко мне плотно, начала говорить, судя по умильному выражению лица и по действию рук, которыми она гладила мою голову, нежности.
Чувствуя неловкость своего безгласного положения, я решился «сорвать безмолвия печать» и начал двигать руками, то прижимая пальцы, то выставляя перпендикулярно один из них. Все слова татарские, употребляемые китайцами, и китайские щедро посыпались из моих [уст]. Я начал уверять ее, как делают сами китайцы, подняв один большой палец, что она хау! Что все женщины, кроме нее, — дрянь. Эту мысль я выразил по возможности кратко, выставив мизинец, сказал: «Все женщины» и плюнул. Все слова, которые знал, начиная с чжангоянзы — этого сорта до лохань — старик, лота — верблюд, тооу — голова, были произнесены мной с подобающими жестами. Комплимент стоил мне ужасного труда, и когда я кончил монолог энергическим «джандурля!», которое имеет тысячи значений (оно значит и высшую степень хорошего [и] nes plus ultra гадости, значит и гнусное проклятие, и радушное благословение), [то] вдруг [я] почувствовал одышку и в изнеможении упал на подушку. Китаянка, разинув рот, держа проклятый платок у носа, смотрела на хозяина, прося объяснения.
Наш синолог, генер[альный] к[онсул] Ив. З[ахаров], начал свои более понятные комплименты и окончательно ее успокоил, дав серебряную плиту в 4 ф. серебром. С выражением живейшей благодарности она начала припадать на одно колено, благодаря каждого из нас порознь, но, представьте наше удивление, китаянка через несколько времени, после совещания с одним китайцем, наглость и выщипанная коса которого бесили нас прежде, положила назад деньги с замечанием, что порядочные люди должны быть более вежливы. Сказав эту умную речь, она надула свои кровяного цвета губы и уселась одиноко в углу. По всем вероятиям, она была убеждена, что сердца наши уже давно привязаны к ее уродливым подковам и что такие варвары, как русские, увидев истинную красоту Китая, должны дать все свои деньги за такую высокую честь. Мы убедили ее взять эти деньги, ибо [она] может лишиться и их, и спокойно начали между собой разговор. Так [мы] кончили знакомство с китайскими «разрушительницами городов». Мы намекнули ей насчет весенних мыслей, упоминая слово фанза. Она сначала обрадовалась приглашению, но, подумав несколько, объявила с прискорбием, что это невозможно. Если узнает полиция, говорила она, то… Она не докончила свою речь, но, несмотря на это, конец был ясен: бамбук — вещь удивительная.
13 [сентября].
Вся фактория предпринимала поездку на Или, где [находятся] пастбища наших табунов. Отлично провели день на открытом воздухе под прохладной тенью дерев.
В последние дни здесь были сильные ветры и холода — мы думали, что уже наступает осень. Здесь летом жара бывает сильная, зима бывает умеренная. Снег выпадает большей частью в конце ноября, только в прошедшем году был в октябре. Зимой высшая точка холода 15°, но это бывает очень редко.
15 [сентября].
Все пишут о европейской организации китайских учреждений, говорят, что в Китае есть прокуроры, что суд китайский есть вещь удивительная и достойная вероятия. Мне кажется, мнение г. Сенковского [о том], что китайцы, может быть, только в книгах своих, которые никто в народе не читает, имеют организацию, но в существе суть тоже азиатцы, как турки, персияне. Сколько мы замечали — все в Китае относительно государственного управления напоминает Азию. Здешний цзян-цзюнь — это совершенный трехбунчужный паша. Он пьет, ест на счет народа. Мясники доставляют каждый день мясо, портные шьют платье, каменщики поправляют дом. Поборы и злоупотребления превосходят границы. Что же касается до взяточничества, то китайцы не уступают в этом и самому персидскому шаху. Я имел случай удостовериться осязательно в китайском правосудии. С водопоя вырвалась моя лошадь и с маньчжурским табуном вошла [в] город. На другой день узнаем, что лошадь продана какому-то да-жену — барину. Китайцы ответили на требование, что они не знают совершенно. Пересказчики китайцы не решаются сказать, боясь преследования [тех], у кого она; чиновники же, хотя и знают, но свой своему поневоле брат. Ворон ворону глаз не выклюет. Хотя я предъявлял бадрак-кузу нашему михмадару, что с гостями порядочные люди так не поступают и представил ему неотразимые аргументы: первое — маньчжурскую поговорку: «Хотя в железные портки навоняй — рано ли, поздно [ли] выйдет запах», применяя это к тому, что она может после найтись; второе, — калмыцкую поговорку: «Один верблюд нагадит, тысяча верблюдов могут на этом месте поскользнуться», – выражая этим, что она может повести за собой неприятность! Но увы!

Китаянка. Снимок конца XIX века
В Китае развращение нравов достигло с незапамятных [времен], как и другие обычаи образованных людей, высшего развития. «Разрушительницы городов» считаются тысячами. Около Пекина в одном городке, где бывает в году один раз ярмарка, собирается до 700 штук этого товара. По Хуанхэ, на берегу, через каждые десять верст можно видеть шалаш, где обитает нежное существо для доставления всевозможного комфорта [в] дороге. Неприкосновенность женщин, законы стыдливости в Китае, хотя и обеспечены законом, но тем не менее они находят возможность открыто предаваться разврату. [В] 15 лет китайские [девушки] уже бывают жертвой сладострастия какого-нибудь старого грешника. Содомский грех, свойственный всем азиатским нравам, в Китае превосходит границы. Конечно, Бухара, Коканд в этом отношении суть средоточия деморализации. Там каждый вельможа ханский содержит полный гарем бядчей, и всякий несколько зажиточный человек ищет себе в услужение мальчика. Имея сколько-нибудь приятное лицо, нет возможности ходить по улицам без того, чтобы не подвергнуться оскорблению. Таджики уверяют, что в хорошенькой девке 10 чертей, а в бядче 12 шайтанов. В Китае есть заведения для доставления [удовольствия] любителям этого сверхъестественного удовольствия. Начало и происхождение этого в Китае приписывают, как и всегда Хуан-ди, баснословному государю, которому, впрочем, приписывают положительно все, что ни есть в Китае.
15 [сентября]. Китайцы никак не могут говорить на иностранных языках. Буквы «н» и «р» непостижимы для китайца. Подчиняя все слова мягкозвучию, они переиначивают их совершенно в другой звук. На Кяхте, как известно, есть свой отдельный торговый язык, составленный из русских, китайских и монгольских слов. Здесь, [в Кульдже], есть подобный язык, составленный из татарских и китайских слов. Кроме того, несколько татарских слов вошло и в местное китайское наречие: например, слово бикар — напрасно, бибуда — ничего. Чрезвычайно любопытен для ориенталиста этот смешанный язык. Он состоит из небольшого числа глаголов, которым придают сотни значений, и из нескольких имен существительных. Глаголы эти не спрягаются, составляются из [окончания] «н», к ним приставляется слово бар — есть; так, если китаец хочет сказать «пойду», «иду», «иди», он выразит одинаково словом «килэнбар»  . В каком смысле употреблено, вы должны догадываться. Из употребляемых ими многозначащих глаголов замечателен и общеупотребителен чидамайды
. В каком смысле употреблено, вы должны догадываться. Из употребляемых ими многозначащих глаголов замечателен и общеупотребителен чидамайды 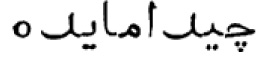 от глагола
от глагола 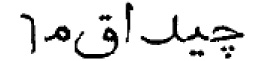 —терпеть;
—терпеть; 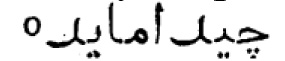 значит: не годится, нехорошо и проч. Ташлан-бар от
значит: не годится, нехорошо и проч. Ташлан-бар от  [ташламак] — бросать, в значении: дрянь, не согласен, нехорошо и пр. Эти слова они употребляют беспрестанно. Из слов замечательно джандурле
[ташламак] — бросать, в значении: дрянь, не согласен, нехорошо и пр. Эти слова они употребляют беспрестанно. Из слов замечательно джандурле 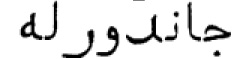 — высшая степень похвалы и nec plus ultra худого, оно значит иногда русское «идет»; чон — большой, чон-кчи — господин. Ишмрут-кчи — бедняк, туло
— высшая степень похвалы и nec plus ultra худого, оно значит иногда русское «идет»; чон — большой, чон-кчи — господин. Ишмрут-кчи — бедняк, туло 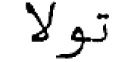 — все, абдан
— все, абдан  — — отлично и халас —
— — отлично и халас — 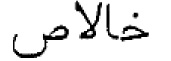 — чистый, вместо… хатун — жена и кулакайчи — вор. Из китайских в большом употреблении янза в соединении с татарским шу, оно приставляется к каждой фразе и выражает: подобный, так, таким образом; просто же янзы соответствует русскому — «ский». Хитан-янзы — китайский, каган-янзы — киргизский; кату — вор в употреблении. Здесь вместо харчевни — чи-фандзе, говорят ашфузул или ашбузул. Слово это составлено из татарского аш и китайского будзо.
— чистый, вместо… хатун — жена и кулакайчи — вор. Из китайских в большом употреблении янза в соединении с татарским шу, оно приставляется к каждой фразе и выражает: подобный, так, таким образом; просто же янзы соответствует русскому — «ский». Хитан-янзы — китайский, каган-янзы — киргизский; кату — вор в употреблении. Здесь вместо харчевни — чи-фандзе, говорят ашфузул или ашбузул. Слово это составлено из татарского аш и китайского будзо.
29 [сентября]. С 15 числа здесь начались признаки осени: холода и юго-западные ветры. По ночам бывали столь сильные бури, что от свиста их мы пробуждались от сна, как бы от грома.
С 18 осень почти утвердилась: дни стали холодные, даже при солнце нельзя было ходить без теплой одежды. Тысячи огней, которые прежде возжигались на полях жнецами, тысячи огней, столь частые, как массивные плошки, уже не потешают нас своими яркими и желтыми звездообразными кострами на темном фоне гор. Китайцы оделись от шеи до ног в овчины, только голова у них всегда открыта. На каждом из них красуется короткая куртка и штаны — все из овчины. Время для яблок, персиков прошло, зато поспели виноград и груши, которые, надо сказать, отменного вкуса. К[алиновский], который производит постоянно термометрические наблюдения, говорит, что здесь прежде бывали и в октябре хорошие дни. Снег обыкновенно падает здесь в конце ноября; снег бывает небольшой и тает всегда в феврале. Река Или замерзает только в половине декабря, и в феврале уже начинаются полыньи, и в марте [лед] совершенно тает. Зима 1853 года памятна в этом крае обилием снега, так что караван, отправившись из Кульджи в декабре месяце через Алтын-Эмель и Югенташ, в конце месяца пришел в Копал, ровно через 30 дней. То же самое было и в Семиреченском и Заилийском краях. Наши тогда были впервые за Или и зимовали при Иссыке, у подножия Кунгей-Алатавских гор. Почта с речки Или шла до Иссыка 15 дней, между тем как в обыкновенные годы расстояние это переезжают в двое суток. Киргизы говорят, что такой зимы они не помнят и уверяют, что русские возят с собой холод. Степные звездочеты замечают, что в долине Джеке (где стоит Копал), славной своей теплотой, климат заметно охладел с прибытием русских. Впрочем, при такой глубине снега, холода были небольшие, кроме страшных буранов.

Китайские женщины. Снимок конца XIX века
Горы вокруг Кульджи уже давно покрыты по самые подошвы снегом и рельефно белеются на темном и зеленом поле окружных садов. Все новоприезжие в Кульджу вынесли какую-то болезнь лихорадочного свойства и с разлитием желчи. Я сам мучаюсь ею вот [уже] 8 дней. В этот период времени мы не сделали никаких замечательных экскурсий, кроме двух поездок на Или и на Малый Сарыбулак. Охота наша была неудачна, хотя уток и фазанов было нарочито много. В последней реке, покрытой густо камышом, много выдры, и я сам видел их несколько. Выдра кричит, высунувши голову из воды, точно поросенок.
Во время последней поездки удалось мне ночевать в юрте пастухов калмыков. Юрты их подобны киргизским, только верх составляется из прямых жердей, у киргиз же он делается выгнутым, почему имеет сфероидальный вид. В юрте был очаг, на нем котел, и в котле варился неизбежный калмак-чай, смешанный с солью и молоком. Калмыки сидели около и курили трубочки, все они были в китайских халатах и в войлочных китайских шляпах. Только калмычки сохраняли в костюме свою народность. Их было две, одна — старуха, имела на голове черный аракчин, испещренный кусками красного, синего и желтого сукна. Девка же с ужасно скуластым лицом была одета более щеголевато; на голове своей она имела старый китайский форменный колпак, убранный корольками и бусами. Белая и грязная рубашка с огромным выкладным воротником была упрятана в синий … халат, похожий на китайский, только с разрезом прямо против груди, пола от поясницы уже отделялась в виде отдельного куска и затягивалась у бедра. Волосы были убраны в две косы, и на ушах были серьги. Она курила табак и вместе с тем жевала какую-то жвачку.
Вчера приехали в Кульджу кзаевцы и расположились станом около чарбака — частокола. Чарбаком, или частоколом, называется притон торговцев азиатцев из разных владений Мавраннагра. Это вбитый [в землю] частокол, ограждающий каждую юрту, в которых живут торговцы отдельно, и потом всю ставку в сложности. Кибитки эти так часты и в таком множестве. Это грязный лабиринт и Экбатана. Здесь же кроются все те господа, которые торгуют золотом, служат шпионами китайцам и воруют лошадей как китайских, так и киргизских.
Кзаевцы гнали баранов и привезли кошмы для обмена у китайцев. Султан их предложил в виде дани известное число баранов, которые и были взяты китайцами по выбору. Бедные подданные Срединной империи жаловались, что китайцы на всех пикетах брали у них по барану.
8 октября. Получили давно ожидаемый лист от Дайцынского государства, написанный на 11-аршинном листе и украшенный 23 печатями. Утешения для нас оказалось очень мало. Как странны и противоположны обычаи Китая и Европы, также и странен способ переписки. Один путешественник справедливо заметил эту противоположность.
10 октября. Под горой [по]явились новые коши киргиз адбановских, приехавших для размена скота на домашние требы. Отдав известное количество казне ([от] 10 — две головы), меняют их [остальной скот] на разные сподручные им кашгарские бумажные материи. Около этого времени приехали наши караваны с новыми товарами и со скотом, и разъехались некоторые троицкие купцы с вымененным чаем.
По ведомости, поднесенной ими в консульство, видны цены на чай в нынешнем году [по] Мухамеджану Яушеву:
- Байховый чай — ящик по 59 рублей, [всего] 28 ящиков на 1652 руб.; еще такого же [чая] по той же цене 52 ящика — 3068 руб.
- Атбаш-чай (цян-лян) 45 пудов по 11 р. 50 к. — 517 р. 50 к. (В штуке этого чаю — 2 пуда 10 фунтов).
- Кирпичного чаю — 271 шт. по 45 к. — 121 р. 95 к.
- Фу-чай по 3 р. 2 шт. — 6 р. Ханчи — 1 шт. 15 [р.], полуканфе — 1 шт. 15 р., креп. — 8 р., лянза — 2 руб., фанзы — 4 р.
Чашек китайских, вееров, табакерок и проч.
Тинзоль — лекарство — 6 кусочков —- 2 р. 40 к.
Пластыря 1 к.— 60 к.
Румянок 100 листов — 50 к.
Итого на сумму 5702 р. 73 к.
Даб — 1080 к[онцов] по 40 к. [на] 432 р. Обратно вывезенных русских товаров — 218 р. 45 к., [в том числе] люстрину, тику, ситцу, платков, китайки, миткалю.
Надо сказать, что наем верблюдов в нынешний год был довольно дорог. Для сего акалакчи — киргизские подрядчики, приезжают из Аягузского округа. При нас приехал один из таких господ уваковского рода Байбулов с 23 верблюдами. Надобно заметить к чести аягузских киргиз, что промышленность у них развита — они ищут выгоды. Этот акалакчи привез с собой для продажи дешевые товары, доступные его капиталу, товары простые, необходимые в домашнем быту калмыков и бедных китайцев.
По ведомости значилось: 90 штук армячины по 60 к. на 54 р. 40 к.; котлов 10 пуд. по 3 рубля — 30 р.; сталь 10 пуд. по 5 р. — 50 р.; кож юфтовых 7 шт. по 3 р. — 21 р.; железо в деле и шинного 14 пуд. 30 ф. по 3 руб.; топоров 4 шт. по 1 р.; чайников медных — 3 шт., всего 5 р.; баранов 90 шт. по 1 руб.; войлоков 9 шт. по 1 р. 50 к.; армяков 7 шт. по 1 р.; мешков 80 шт. по 1 р. Всего на 192 р. 45 к. серебром. Приехал он 7 октября, а 8, нанявшись с верблюдами, он уехал [обратно], сбыв все [свои товары].
8 октября приехал караван с новыми товарами. Товары, привезенные одним купцом: нанки 1310 шт. по 12 к. за аршин, сукна 16 штук по 1 р. 90 к. за арш., сахару 30 пудов по 12 р., машуры, канители 1000 шт. на 250 р., юфты 19 бунтов по 30 р., сундуков и сундучков по 2 р., подносов 3200 шт. по 20 к., столешниц [малых] 302 шт. по 40 к., столешниц больших 50 шт. по 2 р., ичигов с башмаками 17 пар по 3 р., марджану 2½ ф. на 37 р. 50 к., лисьих мехов 2 шт. на 40 р., казанов 12 пудов по 2 р. 15 к. и ситцу 4 шт. по 15 к. Всего на сумму 10 283 р. 46½ к.
У другого купца: нанки 1085 шт. по 12 к., ситцу 233 шт. по 10 к., коленкору 560 шт. по 1 р. 30 к., плису 53 шт. по 25 к., плису цветного 18 шт. по 55 к., материи шелковой 14 штук по 20 аршин, нанки тисненой 14 шт. по 15 к., тику 6 шт. по 15 к. аршин, выдры 20 шт. по 15 р., даб русских 8 шт. по 12 к., кумачу 154 куска по 50 к., китайки 127 тюней по 5 руб., марджану 5½ фунтов по 26 р., сахару 10 пудов по 20 р., мех лисий 1 шт. 60 р., миткалю 10 шт. по 10 к. аршин, платков 11 штук по 25 к., ичигов 10 шт. по 1 р. 50 к., юфты 19 бунтов по 25 р., медных тазов 7 пудов по 15 р., олова 2 пуда по 20 р., подносов 500 шт. по 25 р., казанов, таганов, заступов и капканов 190 пудов по 3 р., сундуков 15 шт. по 4 р., два сундука в 5 р. (всего 10 р.), сундучков 20 шт. по 1 р. 50 к., шкатулок 16 по 1 р., погребцов 5 шт. по 3 р., гармоний 45 шт. по 30 к. Итого на сумму 11813 р. 44½ к. серебром. Цены здесь показаны с провозом по объявлению самих купцов.
12 октября.
Сегодня мне удалось случаем купить образчики нефрита: из Яркенда — горного, называемого туземцами лоуча или биш-бозкаш; нефрита из Хотан-Дарьи (суташ), золотую руду из хотанских гор (кумташ), добываемую жителями селения Керия, и образчик самородной серы из окрестностей Яркенда из горы Тадера, на юго-восток от Яркенда, в днях езды по дороге в Тибет, и смолу и камень из джигды (Яркенд), называемые тогураковым клеем. Нефрит родится только в Восточном Туркестане — и то не везде — и уважается в Китае. Около Яркенда [имеется] солнообразный нефрит, он находится в реке Юрункаше, и добывание [его] запрещено. Весь лов идет в казну, и при работе наблюдает китайский чиновник. В 230 ли от Яркенда есть гора Мирджай, которая вся состоит из разноцветного нефрита, ее обламывают [при помощи огня], предварительно положив дрова. Большие куски отламывать не умеют. В Хотане добывают только солнообразный нефрит из самой Хотан-Дарьи. Сера и нашатырь добываются в Куче. Селитра тоже добывается в ней. Нашатырь ломают в пещерах, где он висит сосульками. Горная сера возится с Аксу и Уча в казну, по положению 1786 г. сто гинов в зачет 20 мешков пшеницы (Уложение Палаты финансов). Ежегодно, [кроме] нефрита, из Яркенда вьюком отправляют ко двору до 10000 гинов яшмы. Яркендский и хотанский нефрит добывается из рек Юрункаш и Каракаса и идет в неопределенном количестве к[о] двору. Частная продажа запрещена и строго осматривается.
Автор «Си-Юй» при всем своем игнорировании слов схватил характер туркестанцев очень метко. Туркестанцы от природы недоверчивы и не всему, что говоришь им, доверяют; да и в их речах много лукавства, почему не слишком им верить должно. Начальники их особенно подвержены сему пороку. Если учтиво обходиться с ними, то они презирают и думают, что их боятся. Если строго поступать, то внутренне беспокоятся и страдают. Если, поступая по законам, иногда употреблять перед ними важность, временами оказывать небольшие милости, то можно поселить в них страх, сопряженный с почтением. Они знают только соблюдать личные выгоды, но не знают бедности своих подчиненных: обижают низших, угнетают слабых. Таковы вообще подлые нравы туркестанцев. Равные между собой не могут уживаться; при встретившихся делах перечат друг другу и [что] неудовольствия их превращаются во вражду, иногда непримиримую.
Их понятия о природе человеческой почерпнуты большей частью из учения буддистов, но они заимствовали только одну скорлупу сего учения. Впрочем, хотя их учение и не противно здравому разуму, но ахуны уже давно впали в невежество и просвещенных людей между ними трудно найти. Большая часть их, подобно гнилым членам (буддистам) в Китае, суть вредные обольстители, которые только выманивают имения у глупых людей. Это достойно крайнего сожаления, много дервишей и лам в почете.
Туркестанцы любят веселиться, пьют вино, [более] всего преданы сладострастию. Женщины ходят, не закрываясь. Много танцовщиц и без них нет увеселения.
Аксуйцы известны за самых добросердечных людей в Восточном Туркестане, но имеют общую всем туркестанцам страсть к тяжбам. Яркендцы от природы робки, преданы китайцам; любят зрелищные увеселения и пиршества. Женщины хорошо поют, пляшут и знают разные фиглярства. Занимательно смотреть, как они вертятся кубарем, ходят по медной проволоке и проч. Жители сладострастны и роскошны. Беки наживаются населением и высасывают все. Хотанцы красивы, добросердечны, нет ни лености, ни притворства. Прилежат земледелию и ткацкому ремеслу. Кашгарцы самый развратный и лживый народ. Распутны: танцовщиц и певиц содержат много.
В истории династии Тан и древнее мы видим, что жители имели те же обычаи и нравы. От Луковых гор на восток [все] преданы сладострастью.
О Кашгаре: жители коварны и лукавы; о Хотане: жители любят песни и пляску, прилежат к ткацкому ремеслу. В этой же истории мы находим легенду о разведении шелка в Хотане. Владетель посватал одну княжну и просил ее привести отца шелков. Девушка спрятала в шляпу червей, ее не осмотрели.
Танцовщицы Западного края славились и тогда и были представляемы китайскому двору в виде дани.

Лагерь около р. Или в Западном Китае. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г
Ойхоры были едва ли не самые самопроизвольные варвары относительно Китая в последнее время. Пользуясь смутами [периода] династии Тан, поддерживаемый мятежниками, Ань Лушан [в] 757 [г.] объявил себя императором. (Он был начальником корпуса в Инчжеу и имел [в своем распоряжении] офицеров и всех варваров). Второй государь ойхорский Мояньчжо помогал императору в эту войну. Он разбил в Шофани тунлосцев и, при свидании с китайским главнокомандующим в Шофани Цзы-и, заставил его поклониться волчьему знамени. Между тем последний ойхорский шеху с 4000 конницы пришел для помощи. При свидании с китайским наследником он считался братом. В 757 [г.] он разбил мятежников во Фыншуй. Ойхоры грабили в это время и союзников. Государственное казнохранилище совершенно опустело. Князь (наследник) Чу останов[ить] не мог, так что жители принесли 10 тысяч кусков шелковых материй.
В 758 г. ойхорский посланник вступил в спор о старшинстве с Гэчжы, главой чернокафтанных дашисцев. Они представлены в одно время через разные входы. По этому посольству император выдал за хана малолетнюю дочь Нин-го. Император напутствовал ей до Сянь-ян. Хан принял князя Юй (родственника императора) в юрте в колпаке и красном кафтане. Хан отправил подарки и 3000 конницы для действия против мятежников, но они [в] 759 г. были разбиты. Хан умер. Ойхоры хотели царевну проводить за ним. Царица сказала, что [такого] обычая в Китае нет и не сопутствовала хану, но подрезав лицо, плакала.
Третий Мэуюй-хан Идигянь. Ойхоры, пользуясь якобы его помощью, грабили Китай. Сам хан со 100 т. войска пришел, чтобы «стянуть горло неприятеля». Князь Юнван (наследник — начальник [военных] корпусов империи), когда имел свидание, то получил выговор от хана, что не сделал мимики. Цзыма выгнали, двум сановникам, находившимся при князе, велел дать по сто палок так, что они в тот же день умерли. Ойхоры взяли восточную столицу и после усмирения мятежа продолжали грабить и неистовствовать, убили до 10 т. человек, так что жители прикрывали наготу писчей бумагой. От хана до цзяй-сяна все получили подарки.
В числе родов киргизских, находящихся в пределах Китая, кереи суть самые углубленные; они кочуют около Хобды, близ города Манаса, и управляются вместе с торгоутами на одних и тех же правах. Участвуют в совете дойтов.
Гости до 14 [октября] выменяли все свои товары на чай. Чаю получили до 95 ящиков по 50 р. каждый. Кашгарцы ныне требуют много ситцу, нанки и проч.
Между Кульджой (Малыми песками) и песками находятся военные поселения китайцев, и два (Тарджи…) поселения дунган. Четыре поселения принадлежат дахурцам и солонам. Сибо занимают на левом берегу Или четыре города, и за песками четыре города принадлежат наполовину сибо и солонам. Таранчи [живут] по склону южных гор. [Они занимают] два Сарыбулака, три Аксу, Хоргос Большой и Малый, Чижа, Тышкан, Бурхан-су (у китайцев Саумал), Яркенд.
Усек разделяется на два [рукава], один приток соединяется с Яркенсу, другой — с Тургенем. От Усека начинается степь камышистая без деревьев; [там растут] эбелек, камыш и ярица; на Борохуджире, около [ее] берега, растут боярка, облепиха.
От гор Яманташ и Даван-кары и от реки Бугурчек к р. Иле, на пространстве дельты, лежит рыхлая глинистая степь, изрытая промоинами от весенних дождей. [Там] грунт так мягок, что весной и летом при дождях растворяется до степени топи или грязи. Вся эта степь покрыта ближе к горам саксаулом и джингилем, потом начинают показываться разные солончаковые кусты — караборак, сарыборак, балыккуз и проч. Далее видны уже наружные следы солонцоватых соров. При береге лежат песчаные холмы в виде гряд, но утвердившийся разными растениями грунт между песками черноземно-солонцеватый, на нем растут: джигда, туранги, чий и джингиль. Эти места составляют зимовье албанов. Скот [здесь] питается солонцовыми, а иногда и саксаулом.
Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 174-247